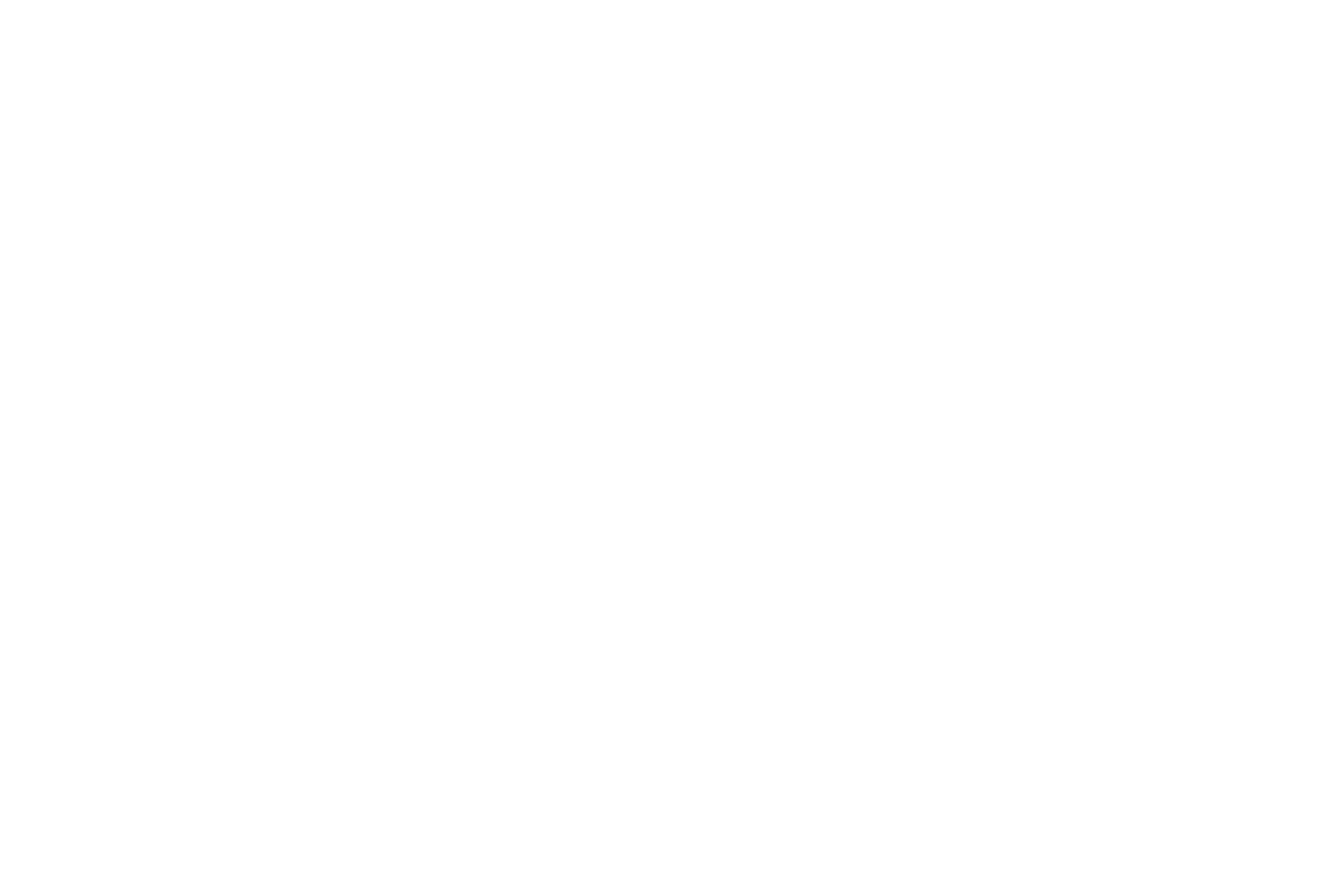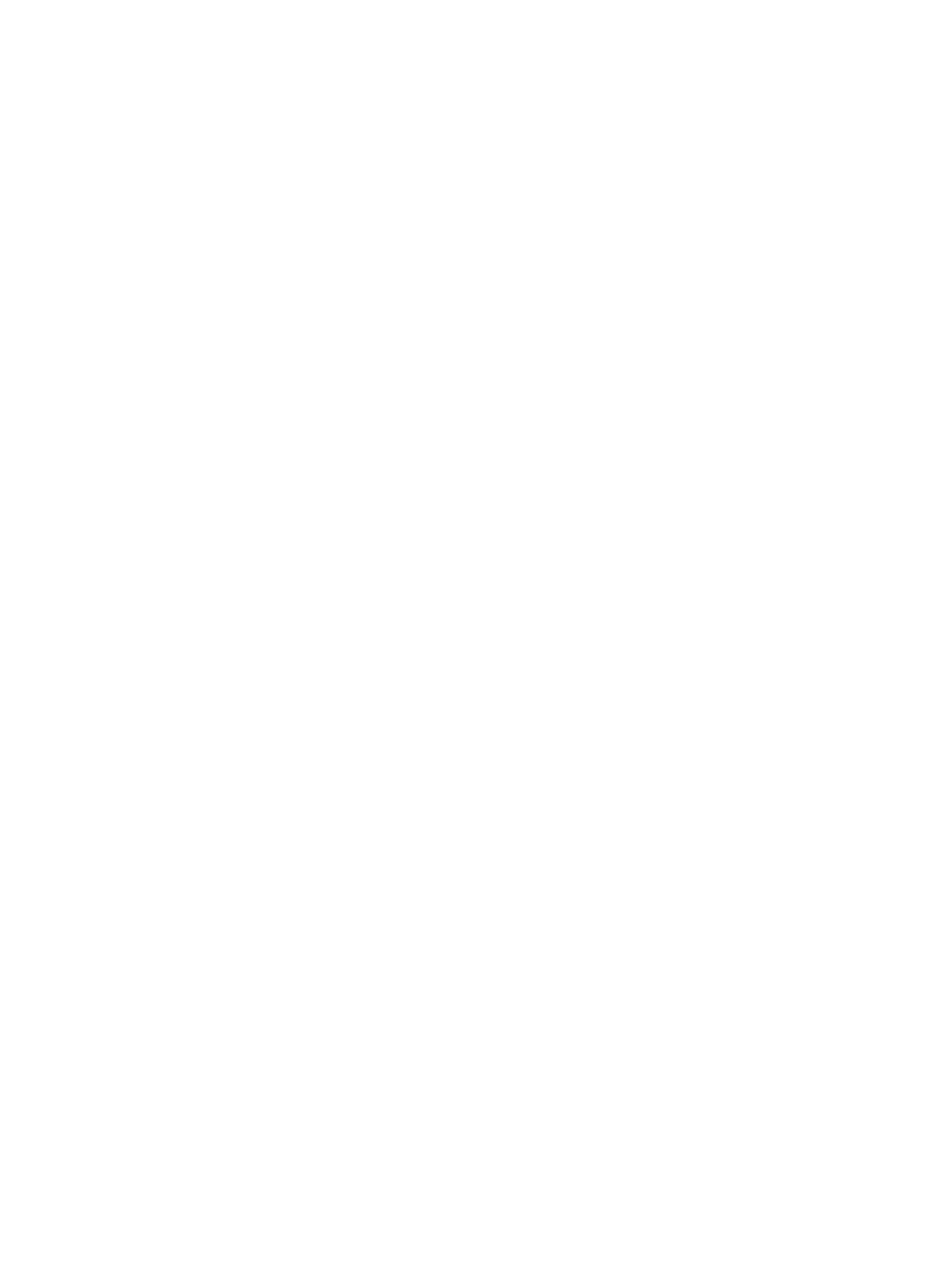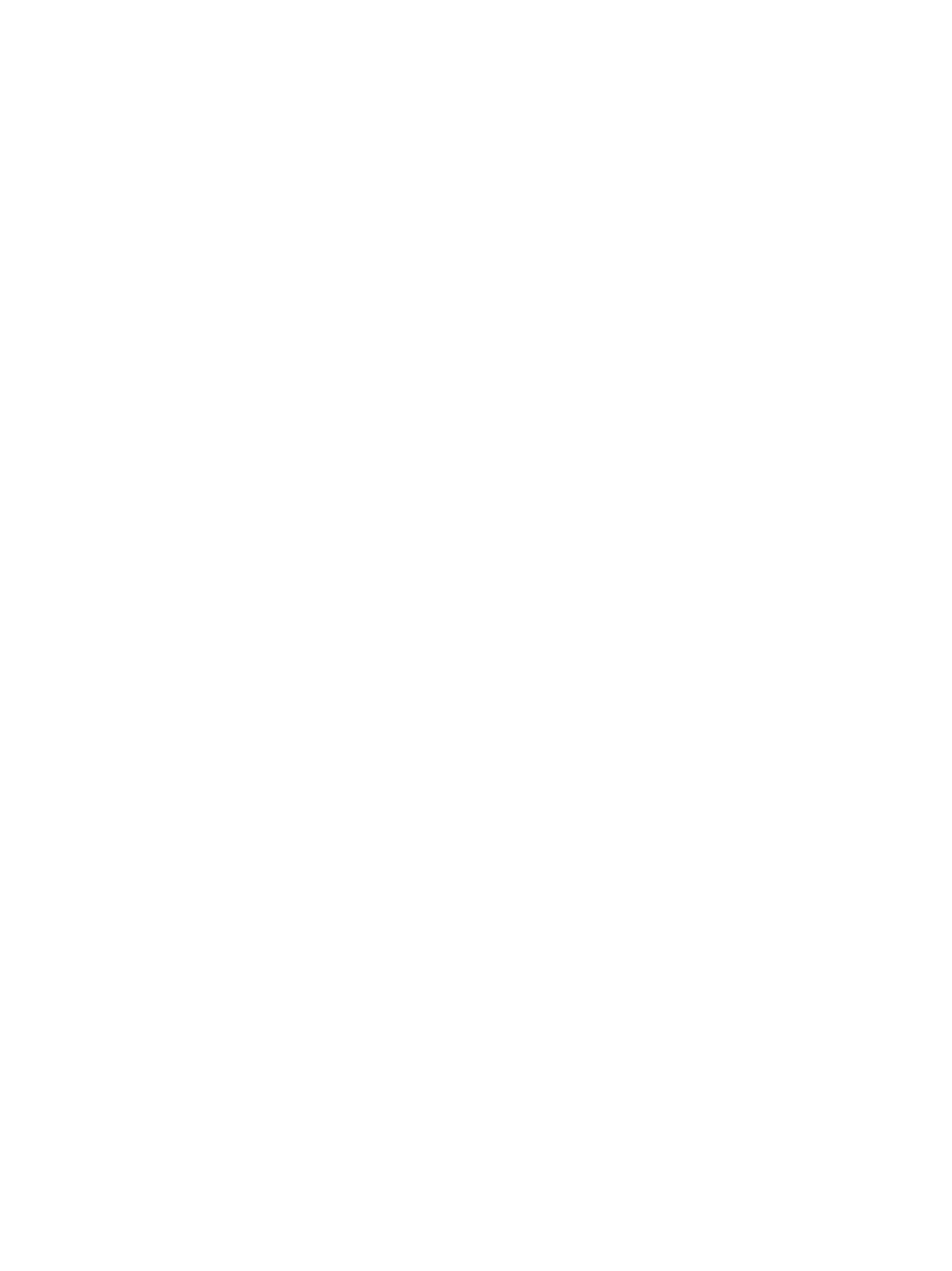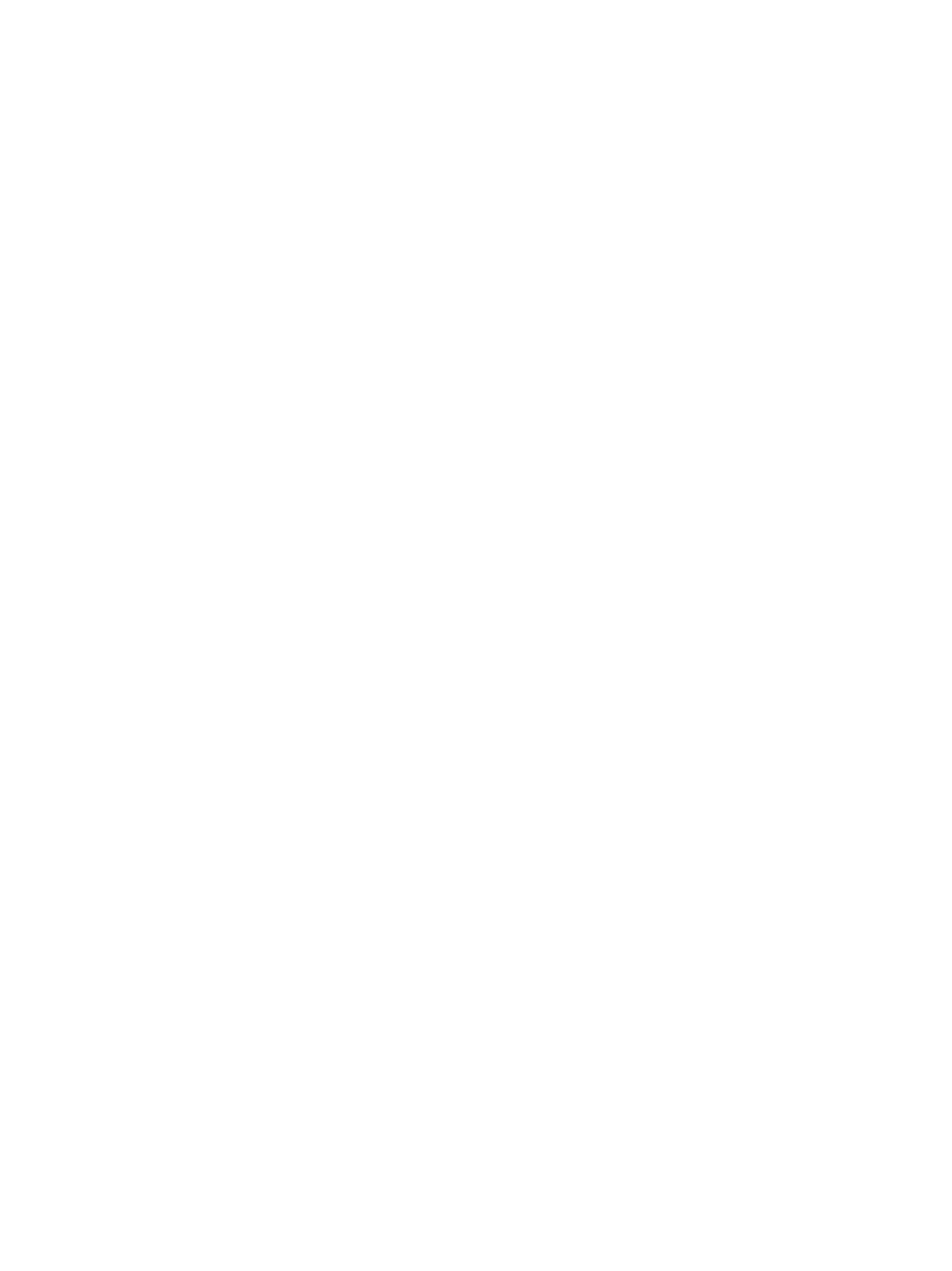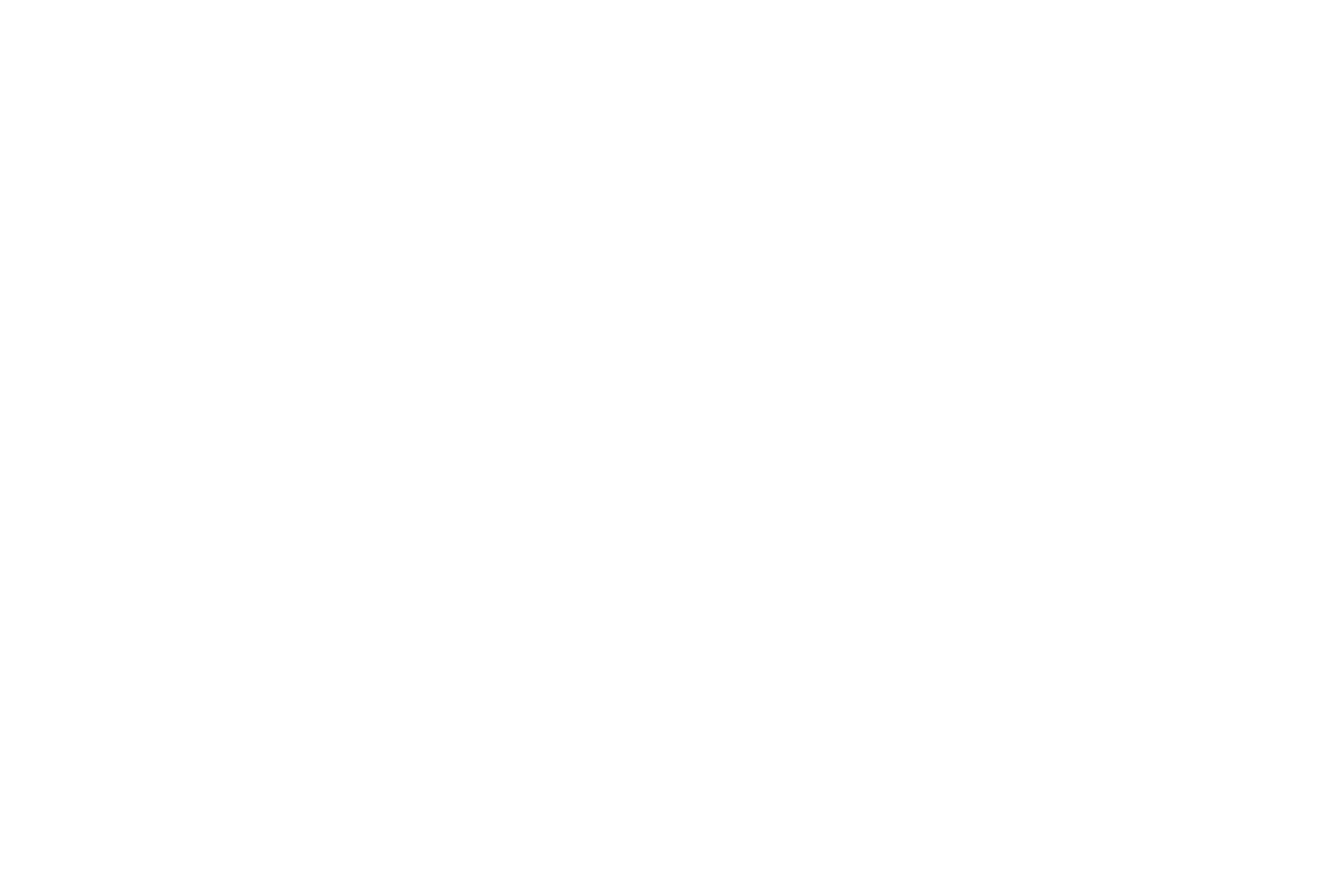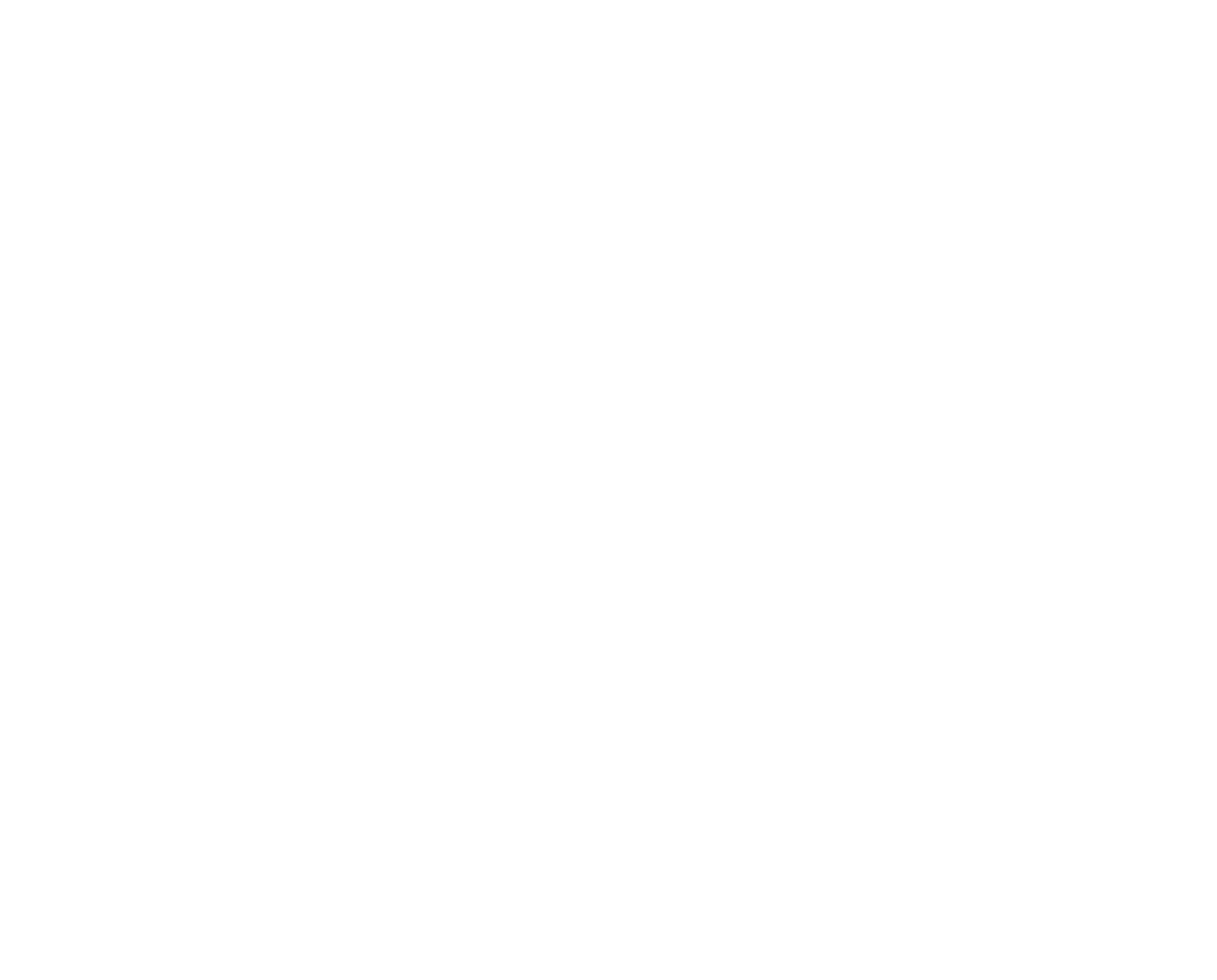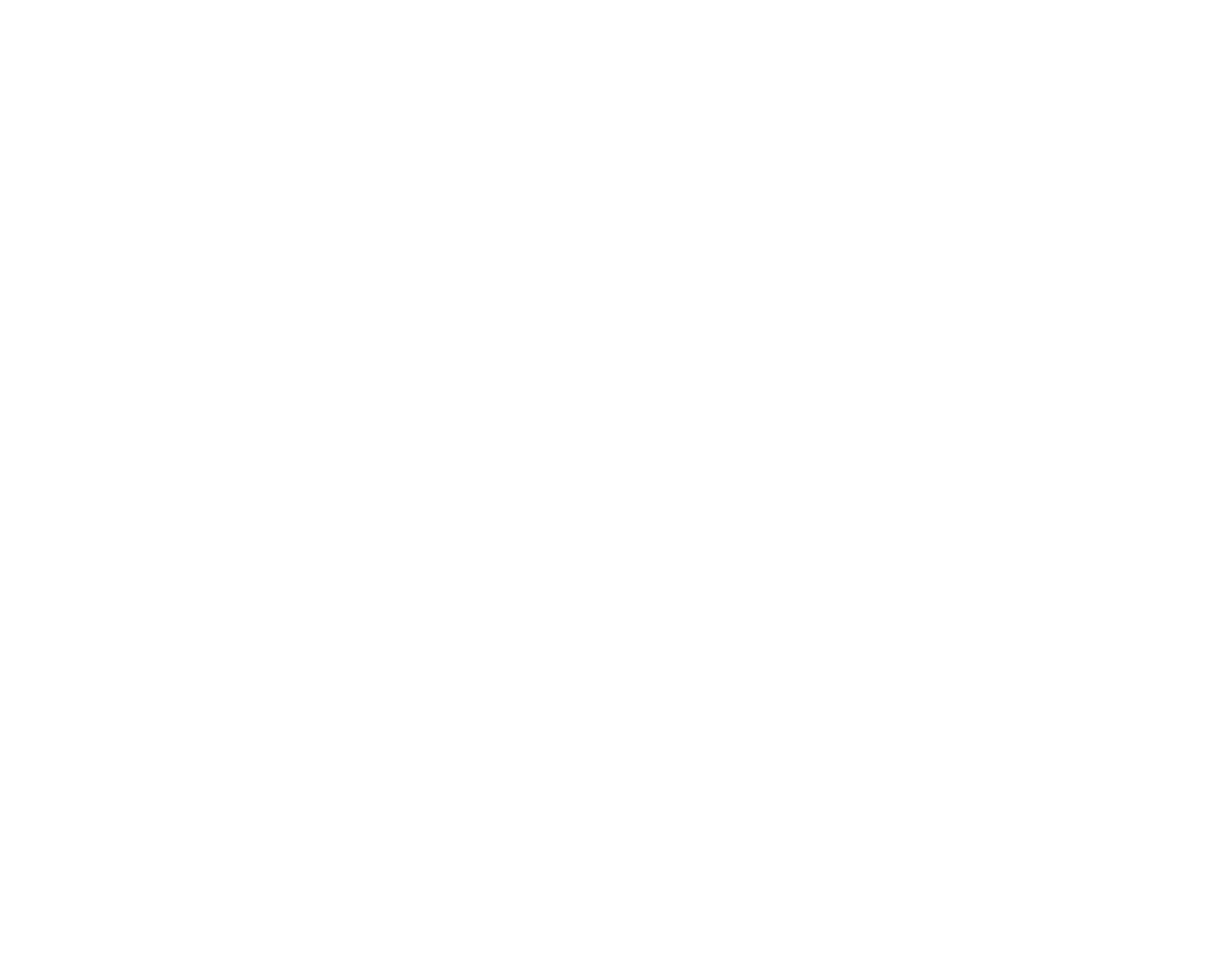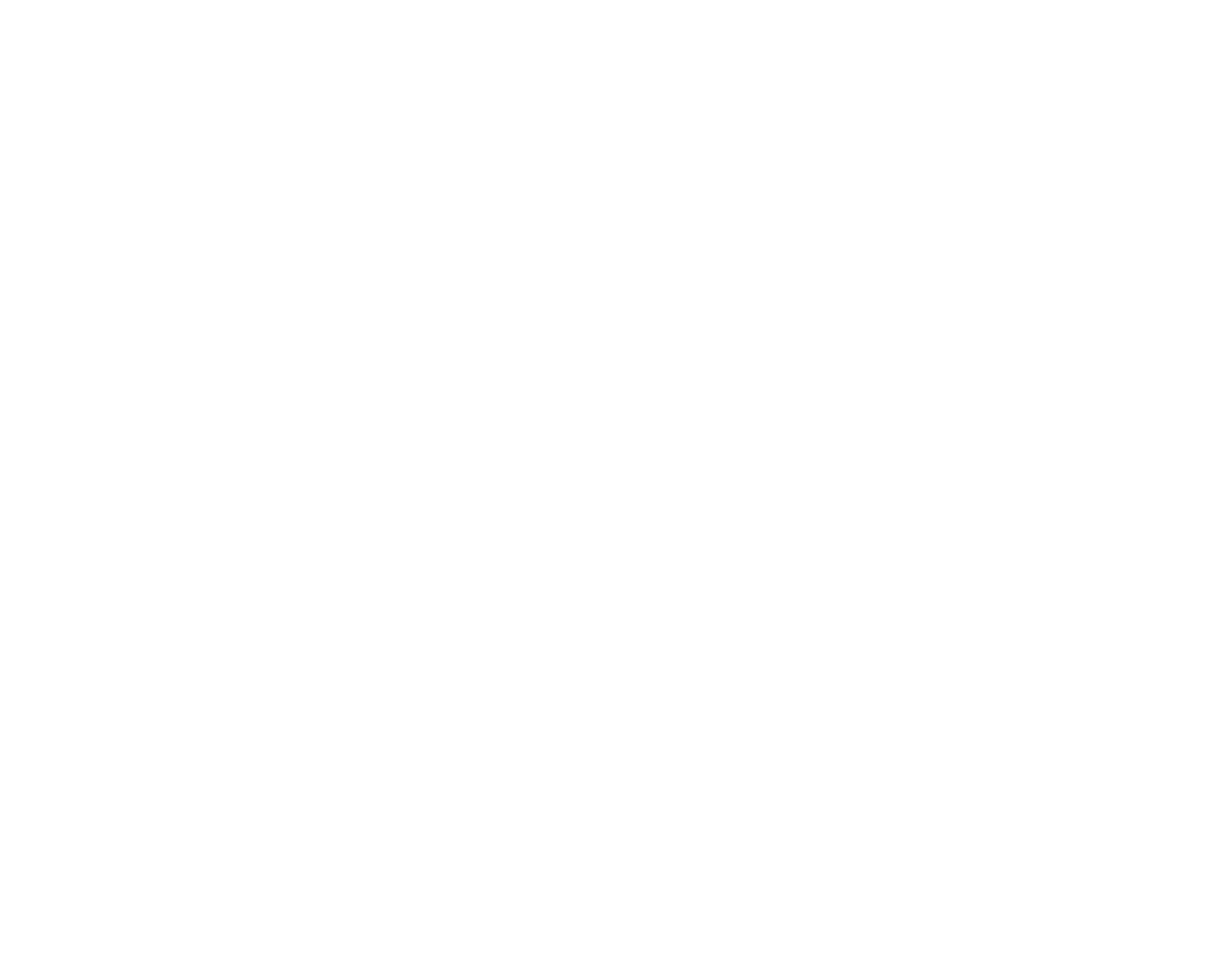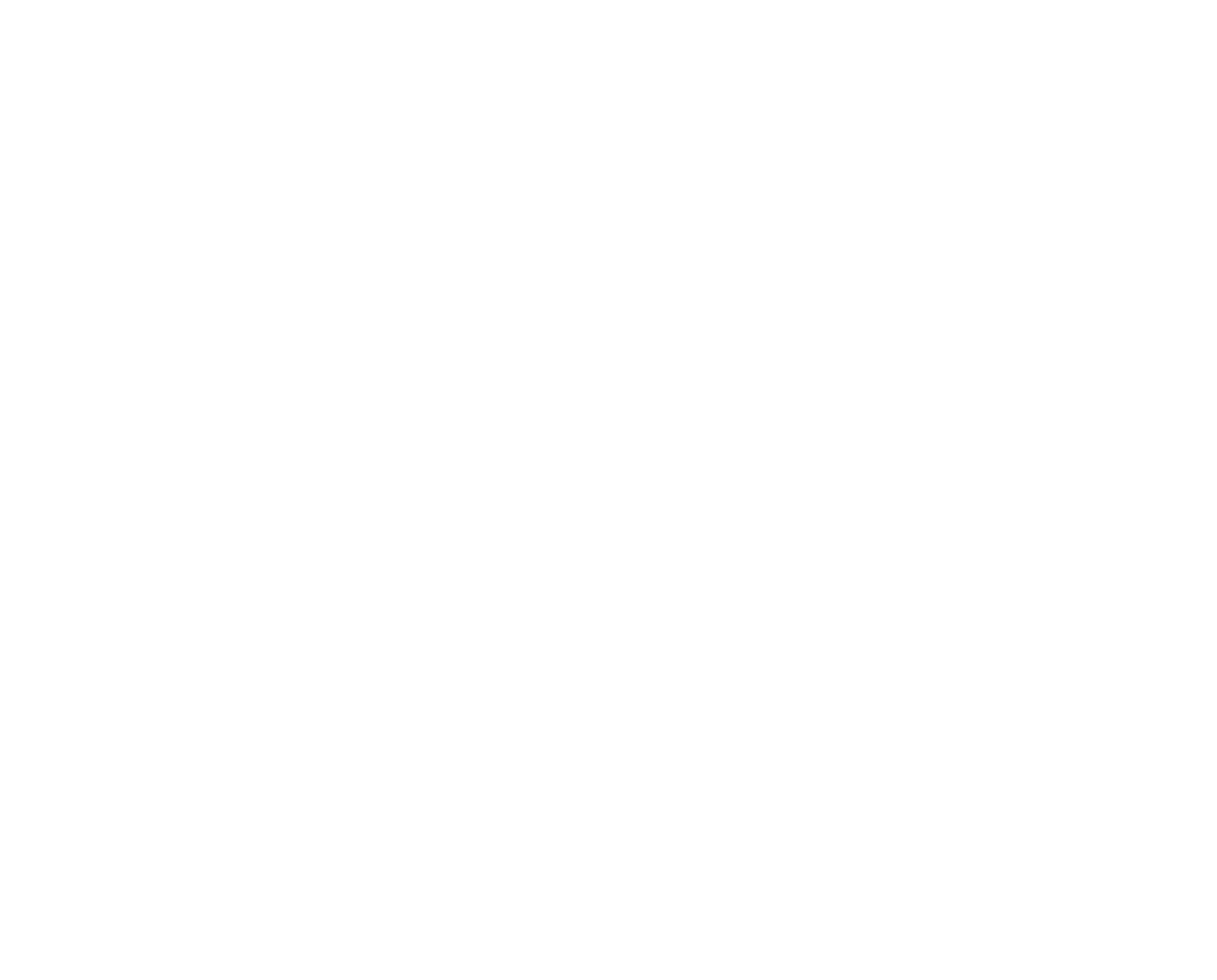ФОТОГРАФ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, АЛХИМИК
Александр Никольский о проектном мышлении и климатических изменениях
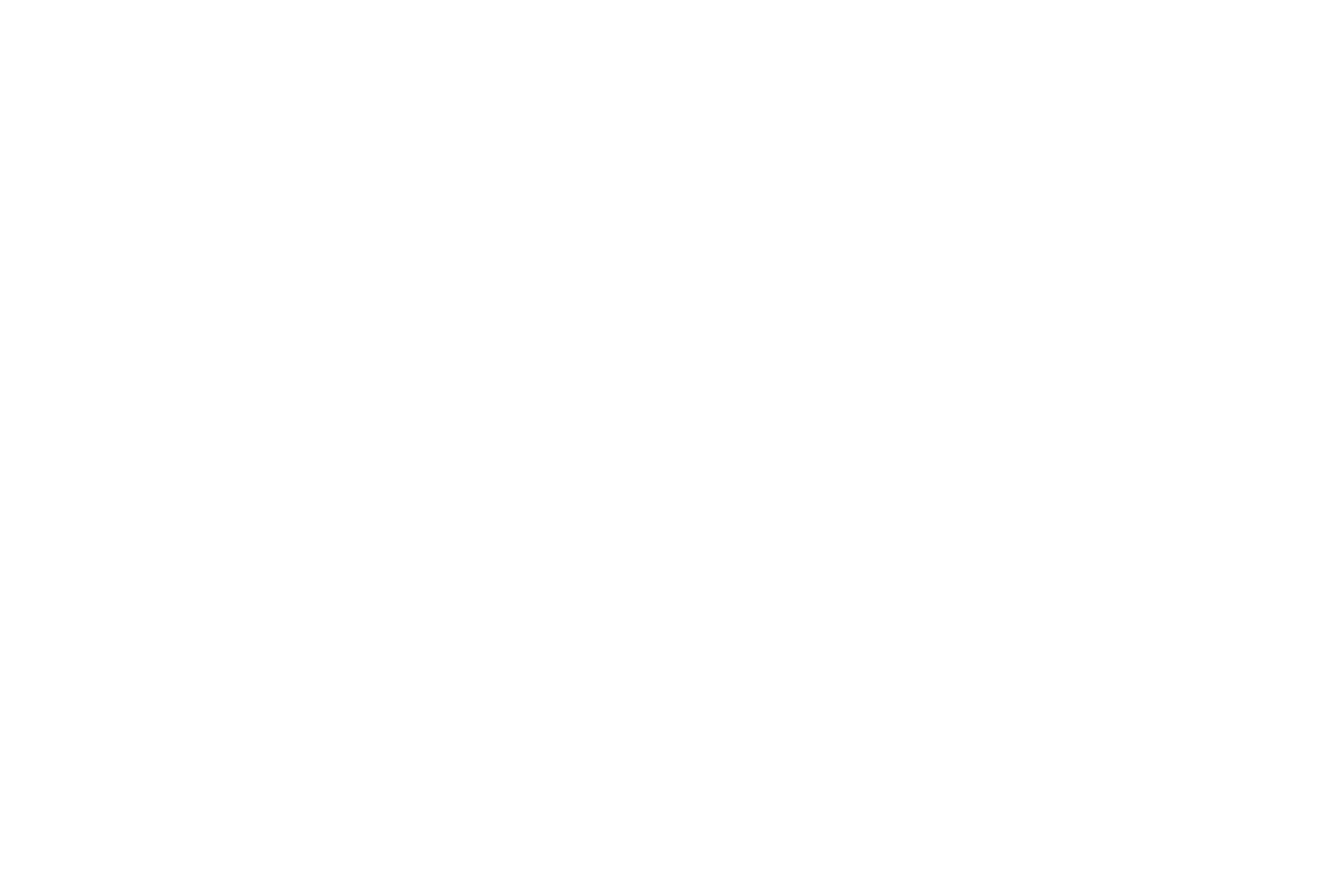
Александр Никольский — преподаватель КемГИК, доцент, практикующий психолог, фотограф, куратор, участник Красноярской музейной биеннале, лауреат различных фотопремий, включая престижную Makers of Siberia Photo Prize и исследователь климатических изменений.
В масштабном проекте Ex-humus он исследует сложные экологические и философские вопросы через призму личного опыта и документального подхода.
В масштабном проекте Ex-humus он исследует сложные экологические и философские вопросы через призму личного опыта и документального подхода.
Но главное в Александре — это его способность соединять, казалось бы, несовместимое: техническое образование механика и тонкую психологическую практику, современную философию и прикладное искусство, локальные сибирские реалии и глобальные климатические процессы
.
Его личность служит вдохновением для студентов, которые видят в нем пример того, как можно не ограничивать себя рамками одной специальности. Для зрителей выставок он открывает новые способы осмысления экологических проблем через искусство. Для коллег-художников и исследователей демонстрирует возможности междисциплинарного подхода, где наука и искусство дополняют друг друга.
.
Его личность служит вдохновением для студентов, которые видят в нем пример того, как можно не ограничивать себя рамками одной специальности. Для зрителей выставок он открывает новые способы осмысления экологических проблем через искусство. Для коллег-художников и исследователей демонстрирует возможности междисциплинарного подхода, где наука и искусство дополняют друг друга.
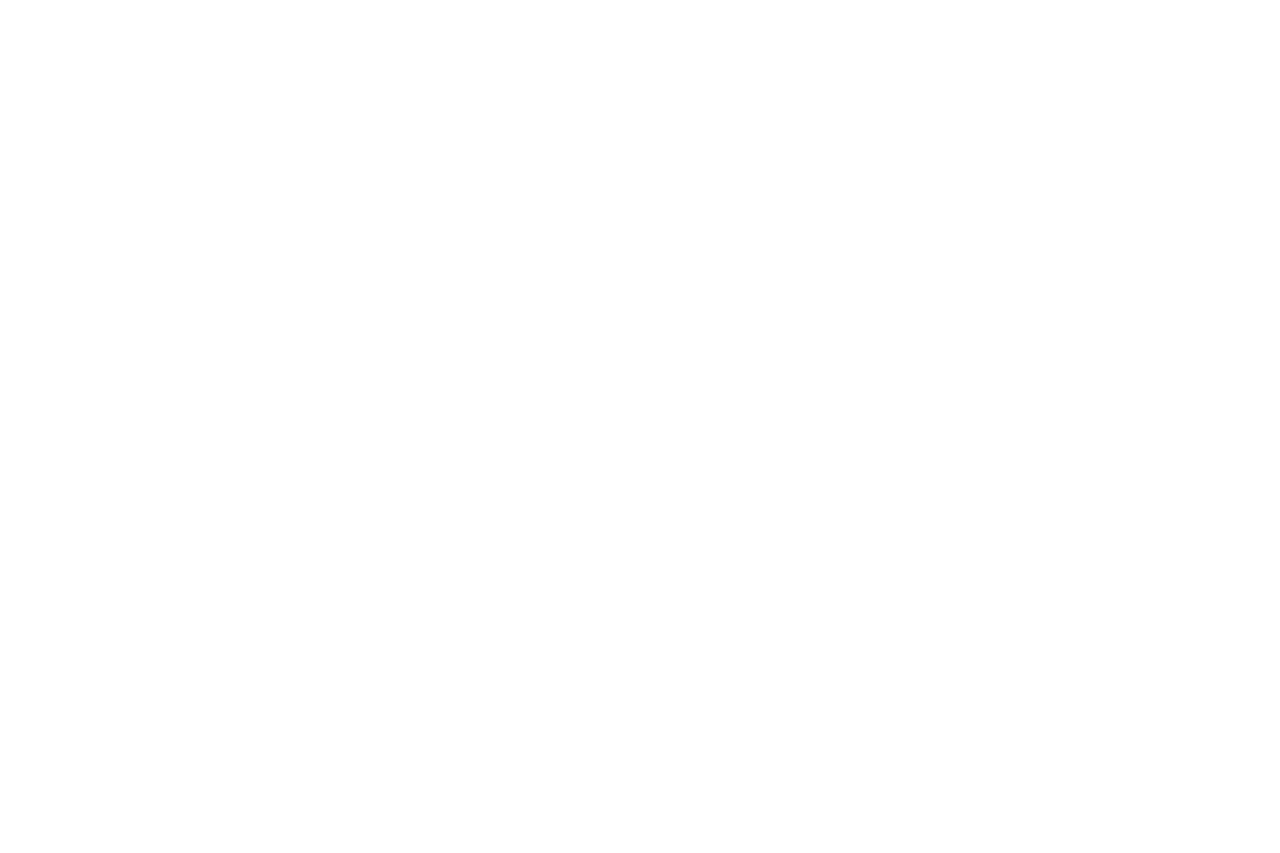
От механика к мультидисциплинарности
— Александр, расскажи о начале своего профессионального пути?
— По первому образованию я техник-механик тракторов и грузовых машин. Поработав некоторое время, я осознал простую истину: крутить гайки до конца дней своих — перспектива малопривлекательная. Решил двигаться в принципиально противоположном направлении и выбрал психологию. Специальность называлась довольно громко — «Психосоциальные технологии работы с населением», но, по сути, это социальная психология.
Гуманитарные науки у меня всегда шли хорошо, еще со школы. А в 90-е годы приходилось мультидисциплинарно выживать — я 1984 года рождения, так что подростковые годы пришлись на то суровое время, когда универсальность была не блажью, а стратегией выживания.
— А что привело тебя в институт культуры?
— После психологического образования я устроился в учреждение профориентации и психологической поддержки, где благополучно утонул в океане бумажек. Бюрократия и отчетность убили всякое желание продолжать эту деятельность — тогда я еще наивно не представлял, как все это работает на самом деле.
Но интерес к социальным процессам никуда не делся. Я задался вопросом: если моя специальность — «Технологии работы с населением», то какой инструмент наиболее эффективен для этой работы? Какой социальный язык максимально распространен? В тот момент ответ был очевиден — визуальная коммуникация, фотография.
Дизайн казался мне слишком коммерческим, больше про продажи, а фотография — про неформальную коммуникацию. Хотя сейчас, в эпоху эмодзи и повсеместной визуализации, эта граница стерлась. Но тогда я сознательно выбрал именно фотографический язык.
— По первому образованию я техник-механик тракторов и грузовых машин. Поработав некоторое время, я осознал простую истину: крутить гайки до конца дней своих — перспектива малопривлекательная. Решил двигаться в принципиально противоположном направлении и выбрал психологию. Специальность называлась довольно громко — «Психосоциальные технологии работы с населением», но, по сути, это социальная психология.
Гуманитарные науки у меня всегда шли хорошо, еще со школы. А в 90-е годы приходилось мультидисциплинарно выживать — я 1984 года рождения, так что подростковые годы пришлись на то суровое время, когда универсальность была не блажью, а стратегией выживания.
— А что привело тебя в институт культуры?
— После психологического образования я устроился в учреждение профориентации и психологической поддержки, где благополучно утонул в океане бумажек. Бюрократия и отчетность убили всякое желание продолжать эту деятельность — тогда я еще наивно не представлял, как все это работает на самом деле.
Но интерес к социальным процессам никуда не делся. Я задался вопросом: если моя специальность — «Технологии работы с населением», то какой инструмент наиболее эффективен для этой работы? Какой социальный язык максимально распространен? В тот момент ответ был очевиден — визуальная коммуникация, фотография.
Дизайн казался мне слишком коммерческим, больше про продажи, а фотография — про неформальную коммуникацию. Хотя сейчас, в эпоху эмодзи и повсеместной визуализации, эта граница стерлась. Но тогда я сознательно выбрал именно фотографический язык.
Призвание преподавателя
— Желание преподавать у тебя возникло давно?
— Желание преподавать возникло еще в школе. У меня была забавная особенность: естественные науки давались легко, пока дело не доходило до формул — там я спотыкался. И вот однажды, в пятом классе, на природоведении учительнице потребовалось отлучиться, и она доверила мне провести урок.
Я рассказывал одноклассникам про погоду — как формируются осадки, про воздушные потоки. Материал знал значительно лучше остальных, поэтому урок прошел гладко. Это ощущение — когда ты можешь объяснить сложное простыми словами и видишь понимание в глазах слушателей — мне понравилось. Тогда и подумал, что преподавание могло бы стать неплохим занятием.
В КемГИК все сложилось органично: еще на третьем или четвертом курсе Елена Юрьевна Светлакова предложила готовиться остаться на кафедре фотовидеотворчества. Это предложение поступило задолго до получения диплома — редкий случай, когда будущее определяется заранее.
— Желание преподавать возникло еще в школе. У меня была забавная особенность: естественные науки давались легко, пока дело не доходило до формул — там я спотыкался. И вот однажды, в пятом классе, на природоведении учительнице потребовалось отлучиться, и она доверила мне провести урок.
Я рассказывал одноклассникам про погоду — как формируются осадки, про воздушные потоки. Материал знал значительно лучше остальных, поэтому урок прошел гладко. Это ощущение — когда ты можешь объяснить сложное простыми словами и видишь понимание в глазах слушателей — мне понравилось. Тогда и подумал, что преподавание могло бы стать неплохим занятием.
В КемГИК все сложилось органично: еще на третьем или четвертом курсе Елена Юрьевна Светлакова предложила готовиться остаться на кафедре фотовидеотворчества. Это предложение поступило задолго до получения диплома — редкий случай, когда будущее определяется заранее.
Философия проектного подхода
— Твои студенты заметно отличаются от многих — они владеют проектным мышлением. Почему ты строишь работу именно так?
— Потому что это единственный рабочий вариант. Я абсолютный практик — теорию, конечно, интегрирую, но практика безжалостно показывает: других способов делать что-то стоящее в этой профессии просто не существует.
— Потому что это единственный рабочий вариант. Я абсолютный практик — теорию, конечно, интегрирую, но практика безжалостно показывает: других способов делать что-то стоящее в этой профессии просто не существует.
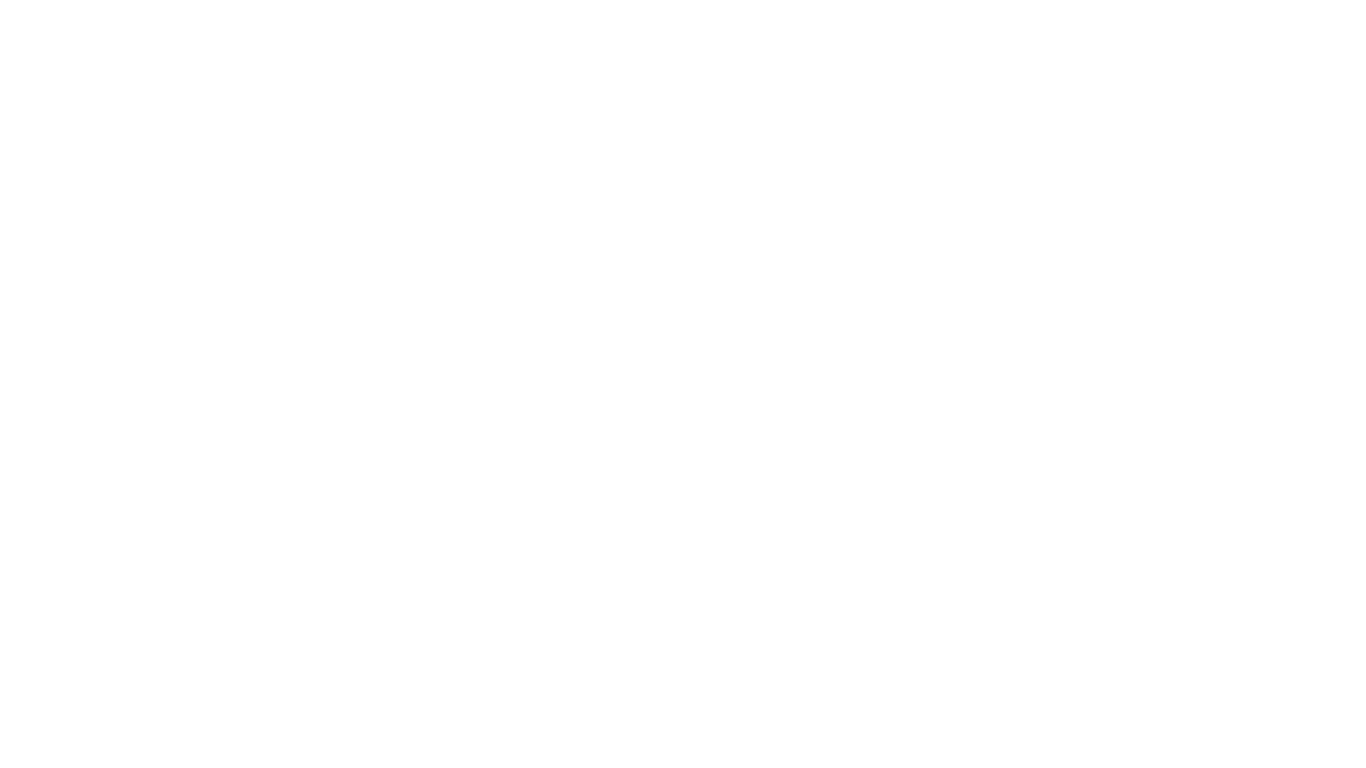
Можно, разумеется, работать по техническим заданиям — устроиться в традиционные СМИ, снимать репортажи для газеты. Но это не тот потолок, к которому стоит стремиться. Слишком ограниченная история. Но более горизонтально организованные актуальные СМИ всегда рады проектным авторским материалам. Если хочется создавать что-то свое, что-то значимое — то это исключительно проект.
— Как ты отбираешь студентов для работы над дипломами?
— Я их замечаю, отмечаю про себя, но никого к себе никогда не зову. Зачем мне лишние хлопоты? Они приходят сами, если достаточно стрессоустойчивые и целеустремленные. Вот с теми, кто дошел, я уже работаю прицельно. Естественный отбор, так сказать.
Условия сотрудничества предельно ясные: не ныть и не исчезать. Дипломный проект должен стать главным делом в жизни до защиты. Если человек отвалился, я за ним не бегаю, это его выбор. Но те, кто готов ни спать, ни есть ради проекта, кто живет им, с такими людьми действительно получается что-то стоящее. Я предъявляю эти требования и к себе в собственной практике.
— Как ты отбираешь студентов для работы над дипломами?
— Я их замечаю, отмечаю про себя, но никого к себе никогда не зову. Зачем мне лишние хлопоты? Они приходят сами, если достаточно стрессоустойчивые и целеустремленные. Вот с теми, кто дошел, я уже работаю прицельно. Естественный отбор, так сказать.
Условия сотрудничества предельно ясные: не ныть и не исчезать. Дипломный проект должен стать главным делом в жизни до защиты. Если человек отвалился, я за ним не бегаю, это его выбор. Но те, кто готов ни спать, ни есть ради проекта, кто живет им, с такими людьми действительно получается что-то стоящее. Я предъявляю эти требования и к себе в собственной практике.
Возвращение к психологии
— Некоторое время назад ты вернулся к психологической практике. Что повлияло на это решение?
— Произошел лютый коллапс в сфере искусства, нарастающий, который продолжается и сейчас. Стало очевидно, что нужен дистанционный дополнительный заработок, и что в России психологов потребуется существенно больше, чем художников. Запрос на психологическую помощь будет только расти.
Поэтому я немедленно вернулся к образованию — пошел учиться практике по самому интенсивному пути, чтобы максимально быстро войти в работу, появилась клиентская база. А теперь уже неспешно доучиваюсь более традиционным маршрутом, который растягивается на годы.
— Произошел лютый коллапс в сфере искусства, нарастающий, который продолжается и сейчас. Стало очевидно, что нужен дистанционный дополнительный заработок, и что в России психологов потребуется существенно больше, чем художников. Запрос на психологическую помощь будет только расти.
Поэтому я немедленно вернулся к образованию — пошел учиться практике по самому интенсивному пути, чтобы максимально быстро войти в работу, появилась клиентская база. А теперь уже неспешно доучиваюсь более традиционным маршрутом, который растягивается на годы.
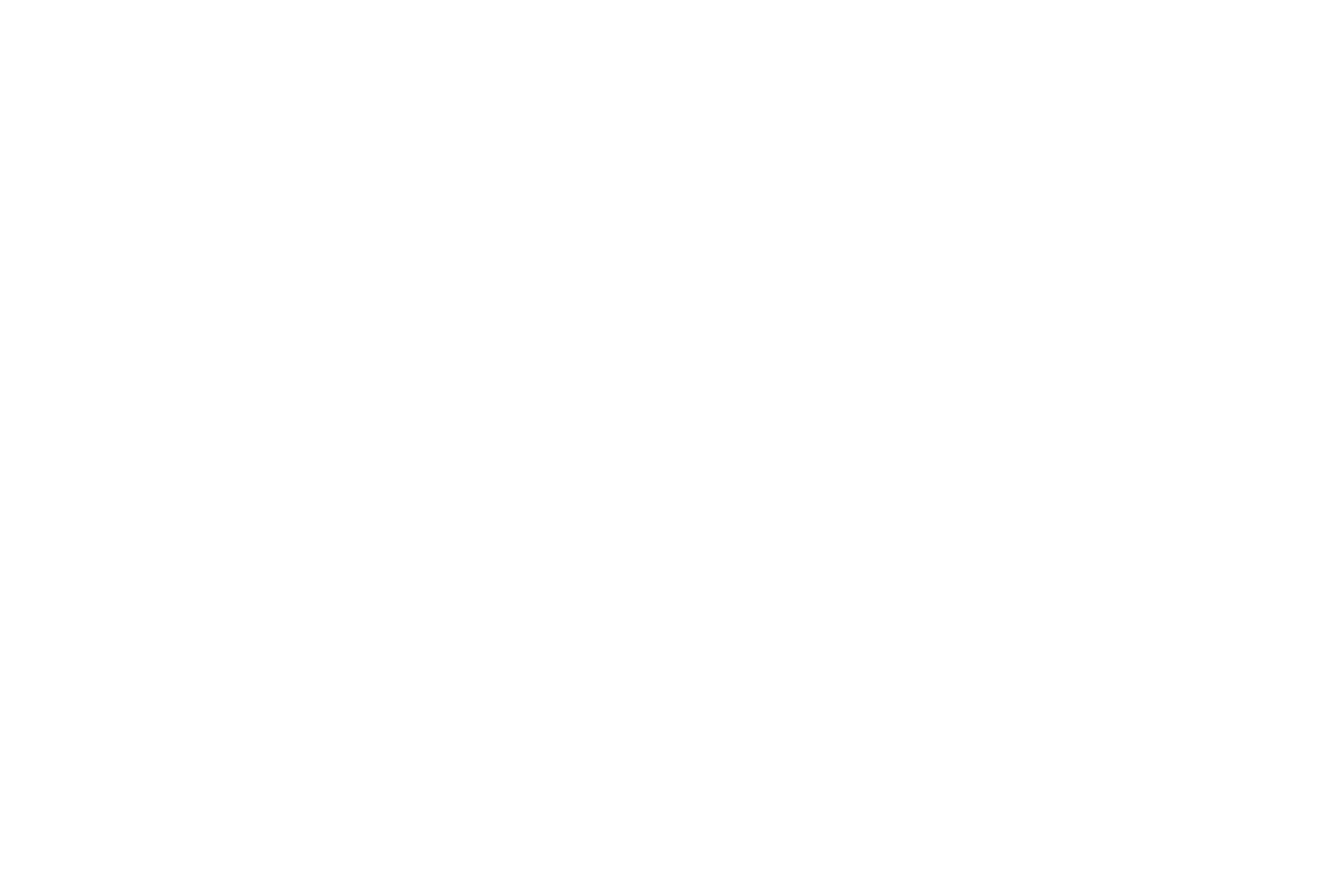
Философские основы творчества
— Какие философские концепции лежат в основе твоего художественного подхода?
— Я работаю с акторно-сетевой теорией, объектно-ориентированной онтологией, темной экологией. В целом все это называется плоскими онтологиями — flat ontologies. Несколько направлений, которые не противоречат друг другу, а скорее дополняют, каждое занимается своей частью общей картины.
— Я работаю с акторно-сетевой теорией, объектно-ориентированной онтологией, темной экологией. В целом все это называется плоскими онтологиями — flat ontologies. Несколько направлений, которые не противоречат друг другу, а скорее дополняют, каждое занимается своей частью общей картины.
«Сибирь располагает воспринимать природные и техногенные нечеловеческие агенты не как пассивную инертную природу и неограниченные формы капиталистической эксплуатации этой природы, а как активных участников общего поля взаимодействия между людьми, обширными необитаемыми пространствами и столь же обширными техносферами»
— именно поэтому объектно-ориентированная онтология оказались для меня наиболее естественной формой концептуализации.
Исследование климата через искусство
— Расскажи немного о своем проекте Ex-humus, посвященному изменению климата?
— Я исследую изменения климата через трансформацию почвы, но понимаю почву в расширенном смысле. Работаю не с привычным черноземом, а с ледниками, вечной мерзлотой, провалами различного происхождения.
В Якутии расположен самый крупный провал вечной мерзлоты в мире — Батагайский. Это была ключевая точка моего проекта, туда просто необходимо было попасть.
— Я исследую изменения климата через трансформацию почвы, но понимаю почву в расширенном смысле. Работаю не с привычным черноземом, а с ледниками, вечной мерзлотой, провалами различного происхождения.
В Якутии расположен самый крупный провал вечной мерзлоты в мире — Батагайский. Это была ключевая точка моего проекта, туда просто необходимо было попасть.
«Если увидишь в стене или на дне бивни мамонта — сообщи мне», — говорил Леонид. Дерево рядом со мной уже накренилось вниз, корни упираются в пустоту. «Если не будет мерзлоты, не будет и нас, все провалится», — сказал старик с велосипедом, которого я встретил в поселке.
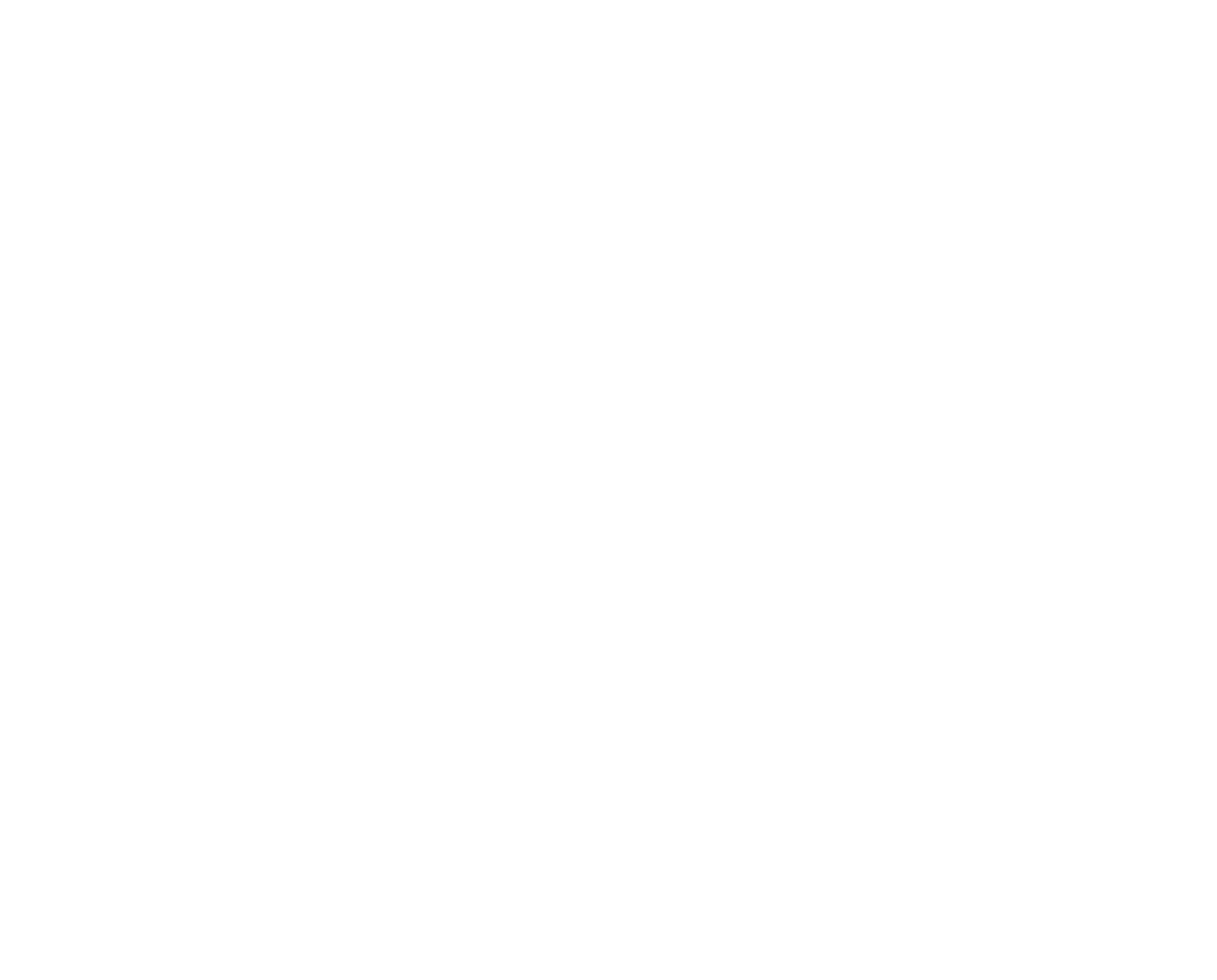
Методы работы разнообразные: фотографирую, использую тепловизор, снимаю с коптера, записываю звук геофоном — пытаюсь зафиксировать не только визуальный, но и акустический образ трансформации.
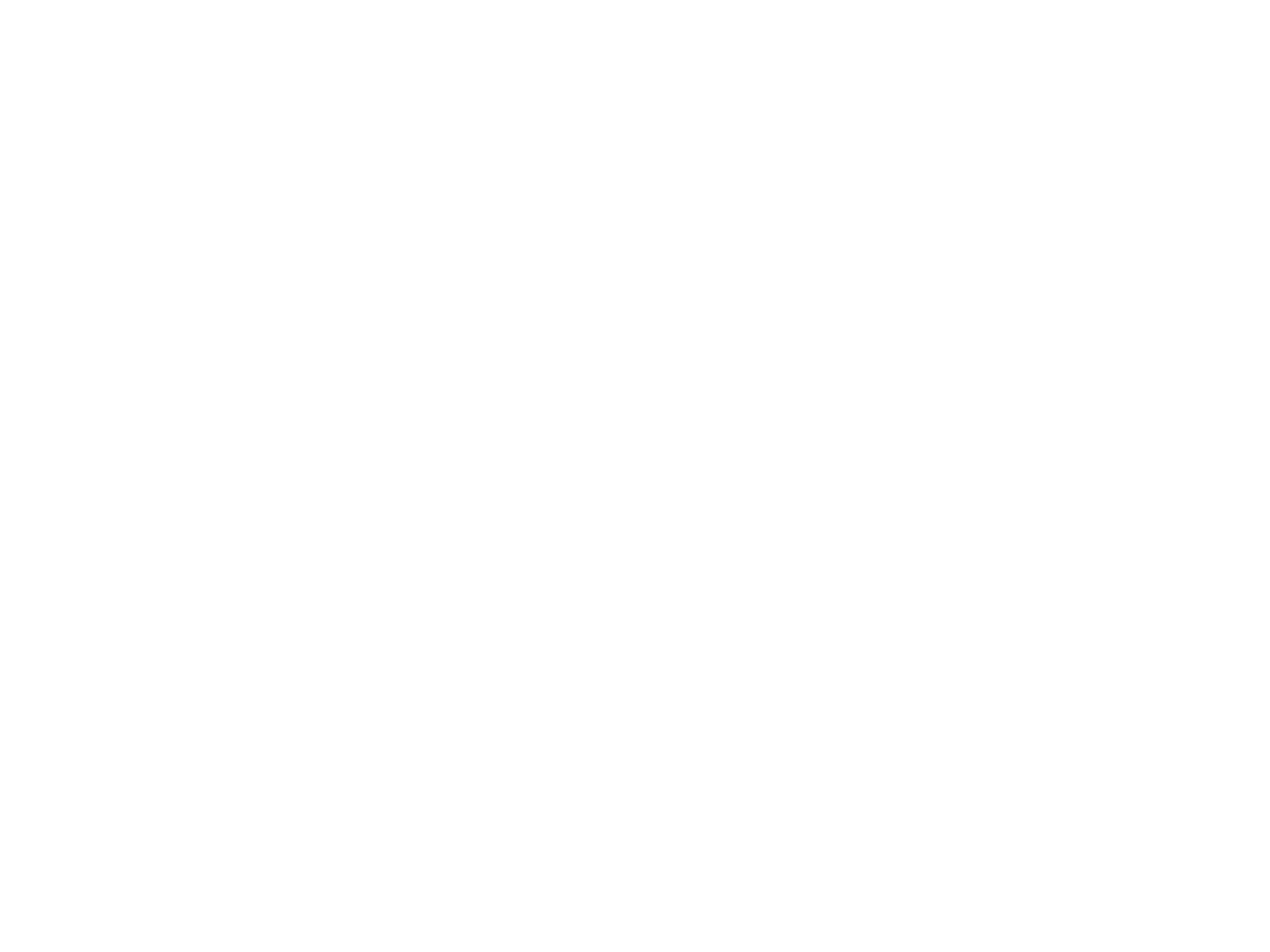
Как я говорил в одном из интервью:
«Я вырос в угледобывающем регионе Западной Сибири, где добывающая экономика полностью изменила ландшафт. Местные экологические проблемы рядом с угольными разрезами, территории коренных народов, захваченные угольными отвалами, черный снег, техногенные просадки почвы — все это часть повседневной реальности».
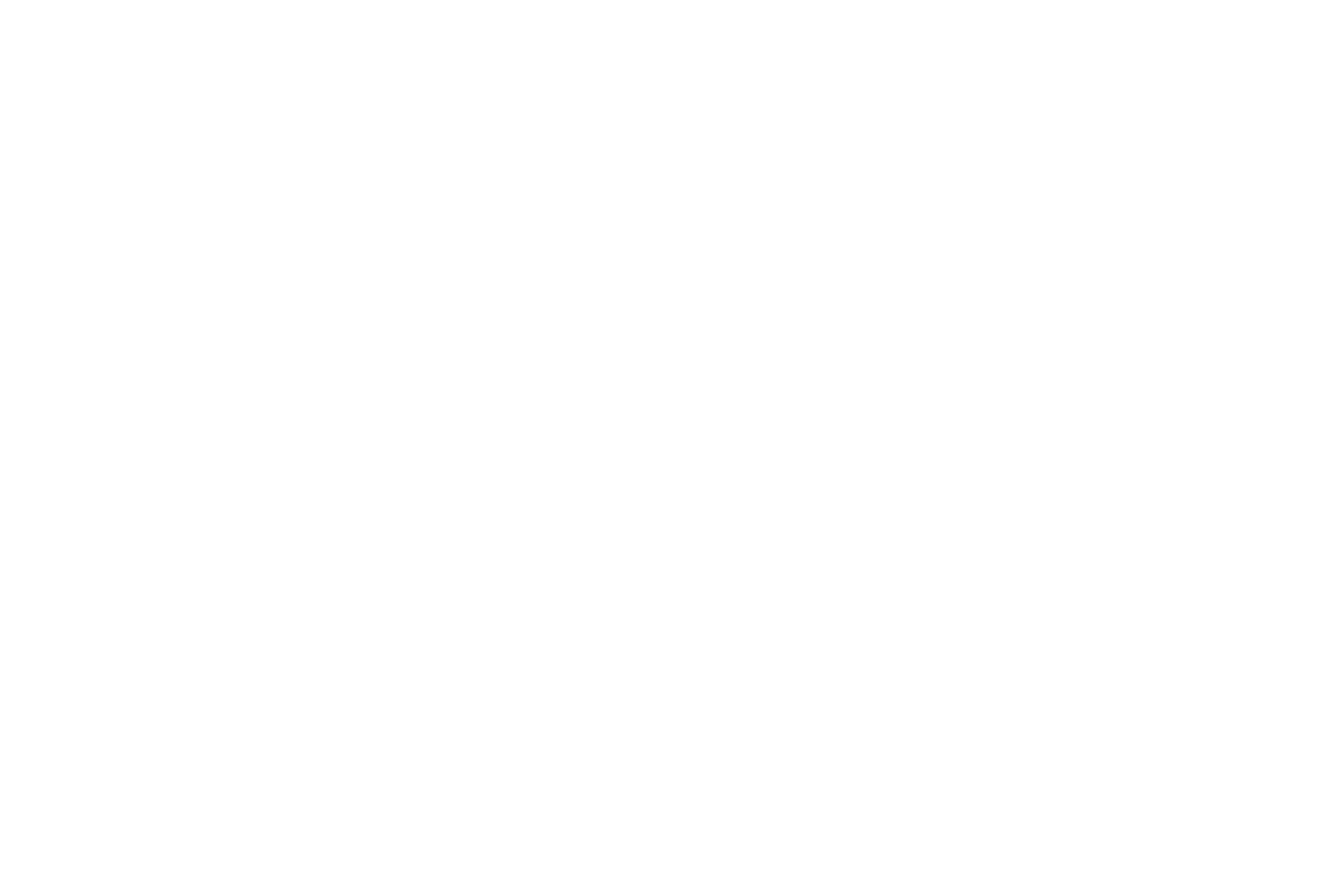
— Как выглядит твой подход к проектам?
— Мой подход основан на понимании того, что «граница между объектами и субъектами настолько неочевидна, что я больше не вижу разницы между ними. Люди, например, являются одновременно субъектами и объектами глобального потепления».
Сейчас готовлю проект для резиденции в Питере. Инсталляция будет состоять из грунта из Каменушинского карьера, где добывали медь, медных и цинковых пластин, погруженных в этот грунт, и гидропоники, которая будет висеть над всем этим в прозрачных сосудах без земли с голыми корнями.
Это разрыв между сельскохозяйственными растениями и почвой — то, что сейчас происходит. Система будет запитываться от электричества, которое дают металлические пластины. Корни находятся не в почве, они подвешены в искусственно созданной среде, как весь агропромышленный комплекс. Я воспроизвожу колониальную и экстрактивную системы добычи ископаемых, которые существуют и процветает сейчас, сегодня, трансформируя и разрушая всё, чего они касаются
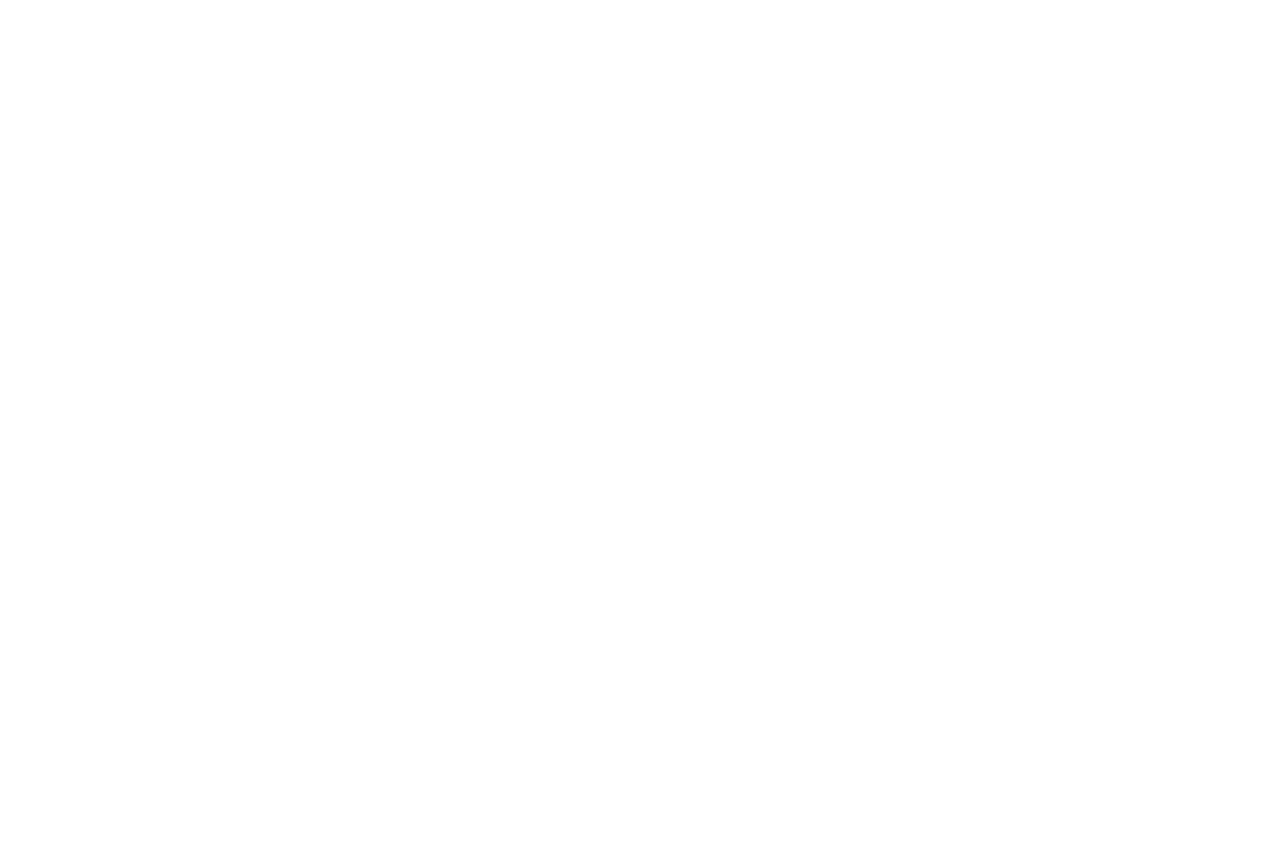
Философия творчества и планы
— Какие у тебя дальнейшие планы?
— Планирую существенно больше работать с текстом. В последнее время тексты идут у меня неплохо — финский академический журнал публикует мою статью, готовится книга о климатических изменениях с моим текстом и фотографиями из текущего проекта.
— Планирую существенно больше работать с текстом. В последнее время тексты идут у меня неплохо — финский академический журнал публикует мою статью, готовится книга о климатических изменениях с моим текстом и фотографиями из текущего проекта.
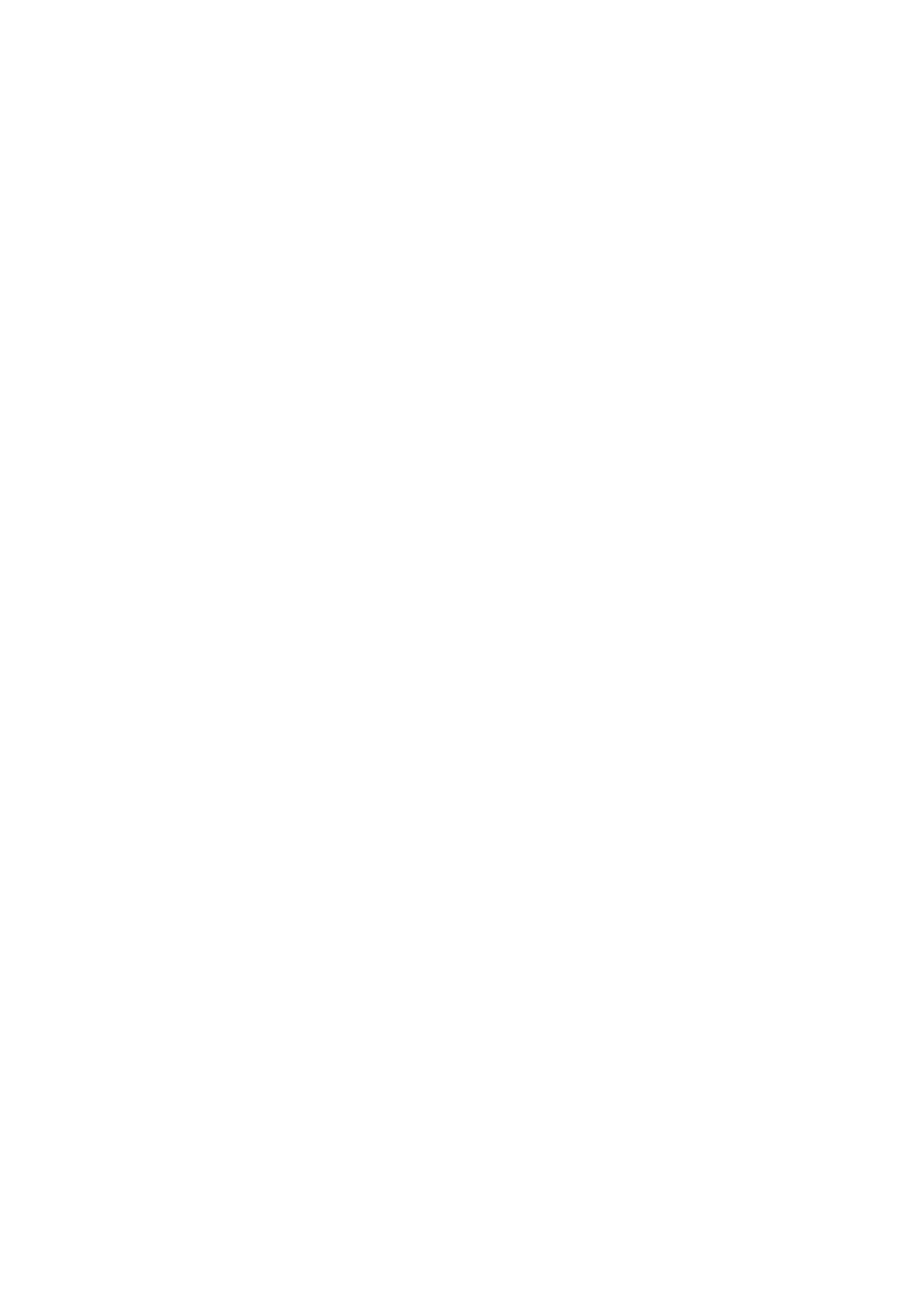
Меня все больше привлекает скульптура и технологическое искусство. Возможно, сдвинусь в сторону машинного зрения, робототехники. Но больше всего интересует deep media studies— работа с «алхимическими» принципами, создание на основе древних химических механизмов объектов, которые живут собственной жизнью. Хочется немного повыращивать големов, если можно так выразиться.
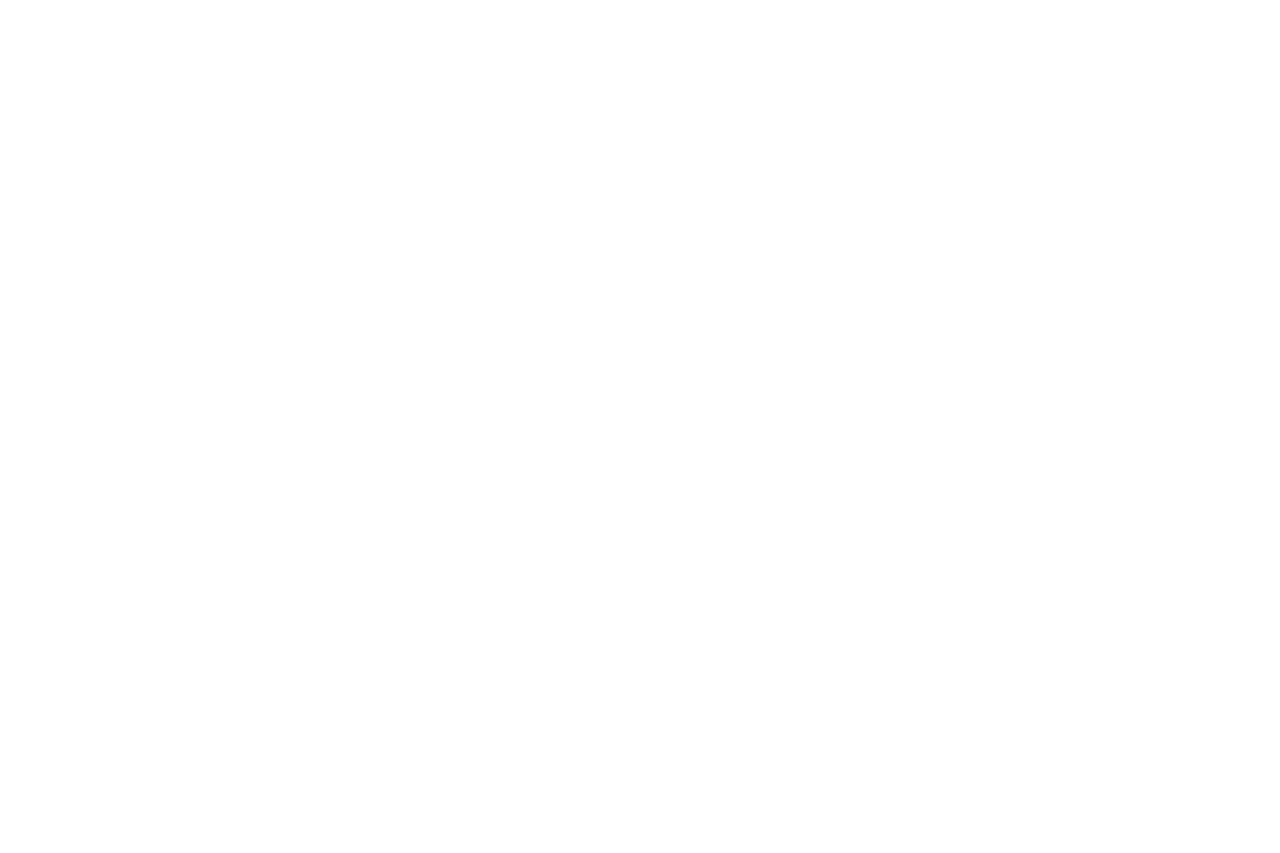
Как я уже отмечал в других интервью:
«Меня вдохновляет мое любопытство и способность делать то, что я делаю. У меня нет надежды. Надеяться — значит ждать и желать, чтобы вещи происходили определенным образом. Лично меня поликризис учит быть готовым к неожиданному и отказываться от ожиданий».
— Ты создавал собственные институции?
— Да, мы вчетвером создали первое независимое культурное пространство в Кемерово - Vovne Loft Project. Александр Марычев, Михаил Багаев, Максим Амельченко и я. Это произошло сразу после закрытия театра "Встреча". Задача была простая: поиграть по собственным правилам в течение ограниченного времени — провести фестиваль Тезисы, прочитать лекции, организовать выставки, сделать то, что мы хотели и как хотели. Полностью за свой счет, не завися ни от кого. Долгосрочных планов изначально не было.
Сейчас поддерживаю галерею современного искусства "Костер" — вижу у них потенциал и перспективы, поэтому ощущаю, что инвестирую усилия не впустую.
— Да, мы вчетвером создали первое независимое культурное пространство в Кемерово - Vovne Loft Project. Александр Марычев, Михаил Багаев, Максим Амельченко и я. Это произошло сразу после закрытия театра "Встреча". Задача была простая: поиграть по собственным правилам в течение ограниченного времени — провести фестиваль Тезисы, прочитать лекции, организовать выставки, сделать то, что мы хотели и как хотели. Полностью за свой счет, не завися ни от кого. Долгосрочных планов изначально не было.
Сейчас поддерживаю галерею современного искусства "Костер" — вижу у них потенциал и перспективы, поэтому ощущаю, что инвестирую усилия не впустую.
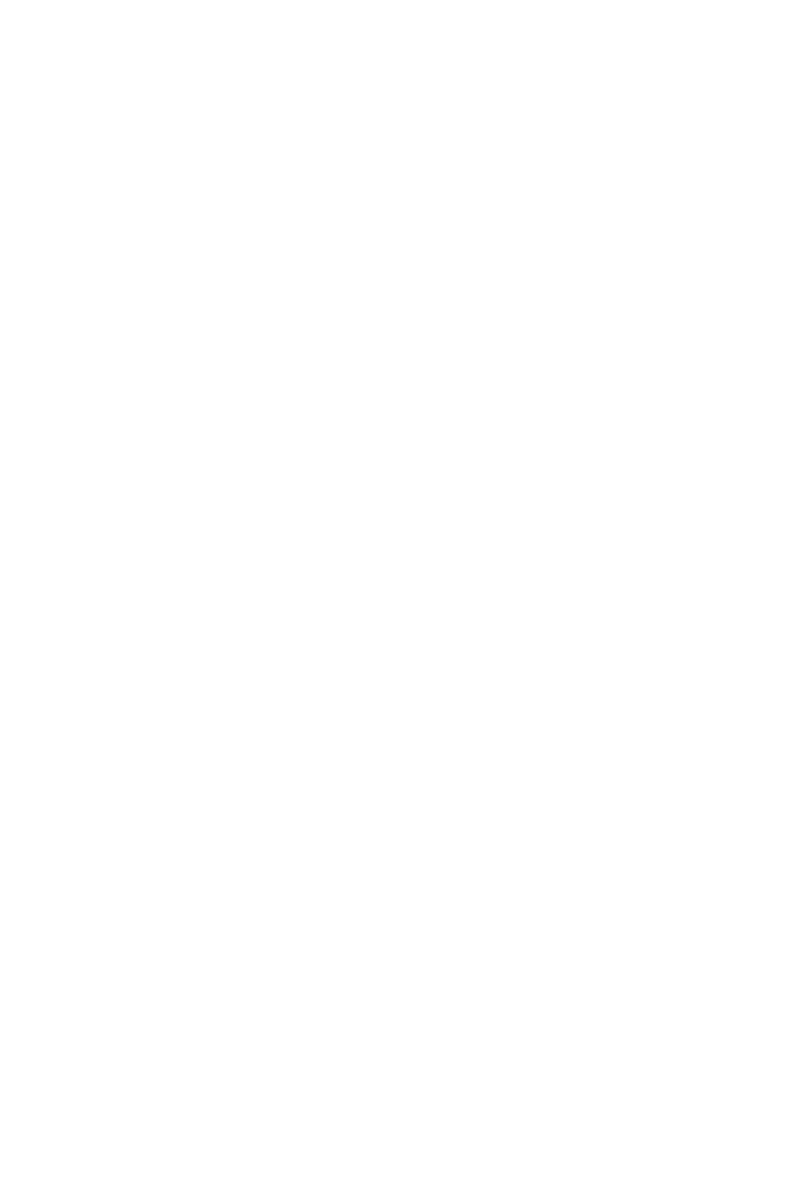
— А как насчет междисциплинарных проектов внутри института?
— Один из интересных экспериментов — совместный проект с магистранткой факультета музыкального искусства Екатериной Темниковой. Мы решили соединить музыку и фотографию в единое художественное высказывание.
Идея была простая, но эффектная: заменить дирижерскую палочку лазерной указкой. В полной темноте Екатерина дирижировала музыкальными произведениями, создавая световые траектории в пространстве. Музыка буквально материализовалась в графическом изображении.
У каждого композитора получилась своя уникальная визуальная подпись. Мы наблюдали процесс перевода звуковых структур в пространственно-световые формы.
Как отметил ректор института Александр Викторович Шунков: «Этот проект впервые в практике института продемонстрировал возможности синестетического подхода к искусству, когда границы между различными видами художественного творчества растворяются, создавая новые формы эстетического опыта».
— Один из интересных экспериментов — совместный проект с магистранткой факультета музыкального искусства Екатериной Темниковой. Мы решили соединить музыку и фотографию в единое художественное высказывание.
Идея была простая, но эффектная: заменить дирижерскую палочку лазерной указкой. В полной темноте Екатерина дирижировала музыкальными произведениями, создавая световые траектории в пространстве. Музыка буквально материализовалась в графическом изображении.
У каждого композитора получилась своя уникальная визуальная подпись. Мы наблюдали процесс перевода звуковых структур в пространственно-световые формы.
Как отметил ректор института Александр Викторович Шунков: «Этот проект впервые в практике института продемонстрировал возможности синестетического подхода к искусству, когда границы между различными видами художественного творчества растворяются, создавая новые формы эстетического опыта».
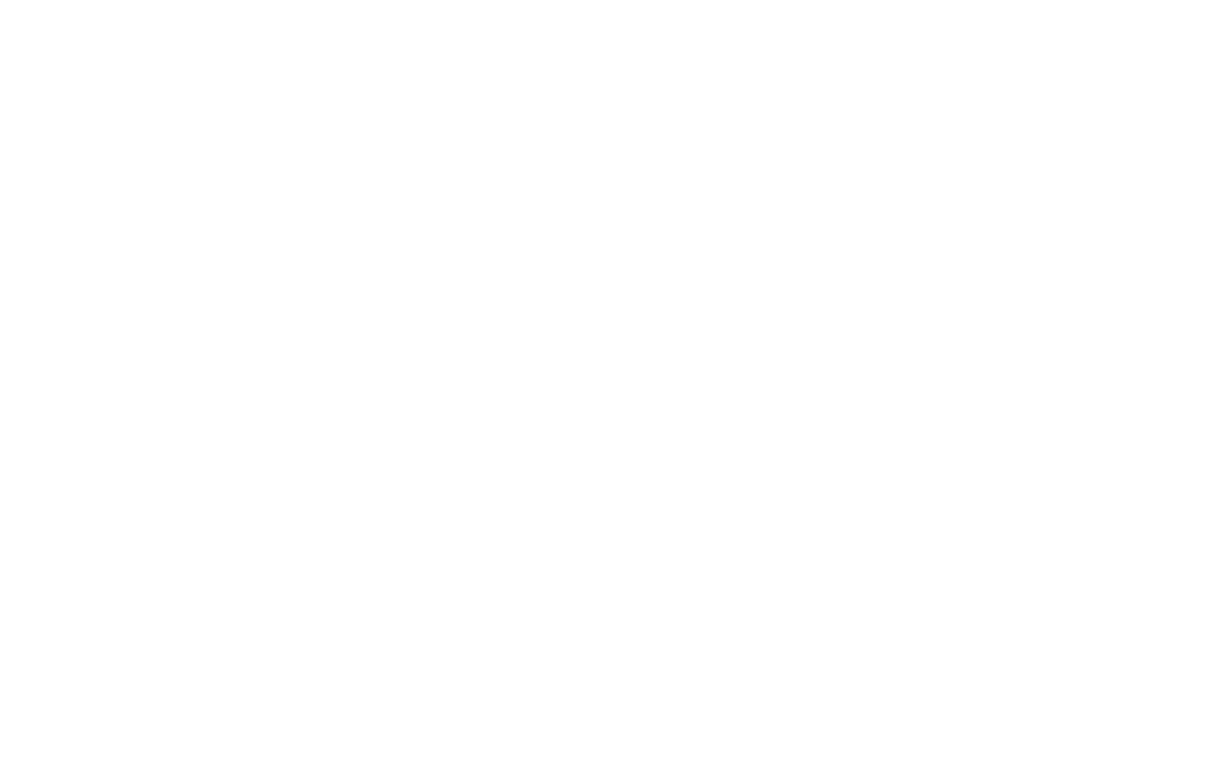
О мультидисциплинарном подходе
— Как ты видишь будущее современных практик на пересечении искусства, науки и технологий?
— Горизонт планирования крайне ограничен. Все происходит стремительно и непредсказуемо. Но я абсолютно убежден: без проектного подхода в современном искусстве просто нечего делать.
Меня увлекает работа на пересечениях — искусство и наука, психология и визуальные технологии, философия и практика. Современная философия, кстати, пишется очень ясным и простым языком — почитайте Анну Цзин, Джейн Беннетт или Тимоти Мортона. Это чистейший сторителлинг, способ говорить о сложных вещах доступно и при этом захватывающе!
Именно то ощущение, которое я испытал на уроке природоведения в школе. Эти философские подходы тоже очень материалистичные.
— Горизонт планирования крайне ограничен. Все происходит стремительно и непредсказуемо. Но я абсолютно убежден: без проектного подхода в современном искусстве просто нечего делать.
Меня увлекает работа на пересечениях — искусство и наука, психология и визуальные технологии, философия и практика. Современная философия, кстати, пишется очень ясным и простым языком — почитайте Анну Цзин, Джейн Беннетт или Тимоти Мортона. Это чистейший сторителлинг, способ говорить о сложных вещах доступно и при этом захватывающе!
Именно то ощущение, которое я испытал на уроке природоведения в школе. Эти философские подходы тоже очень материалистичные.
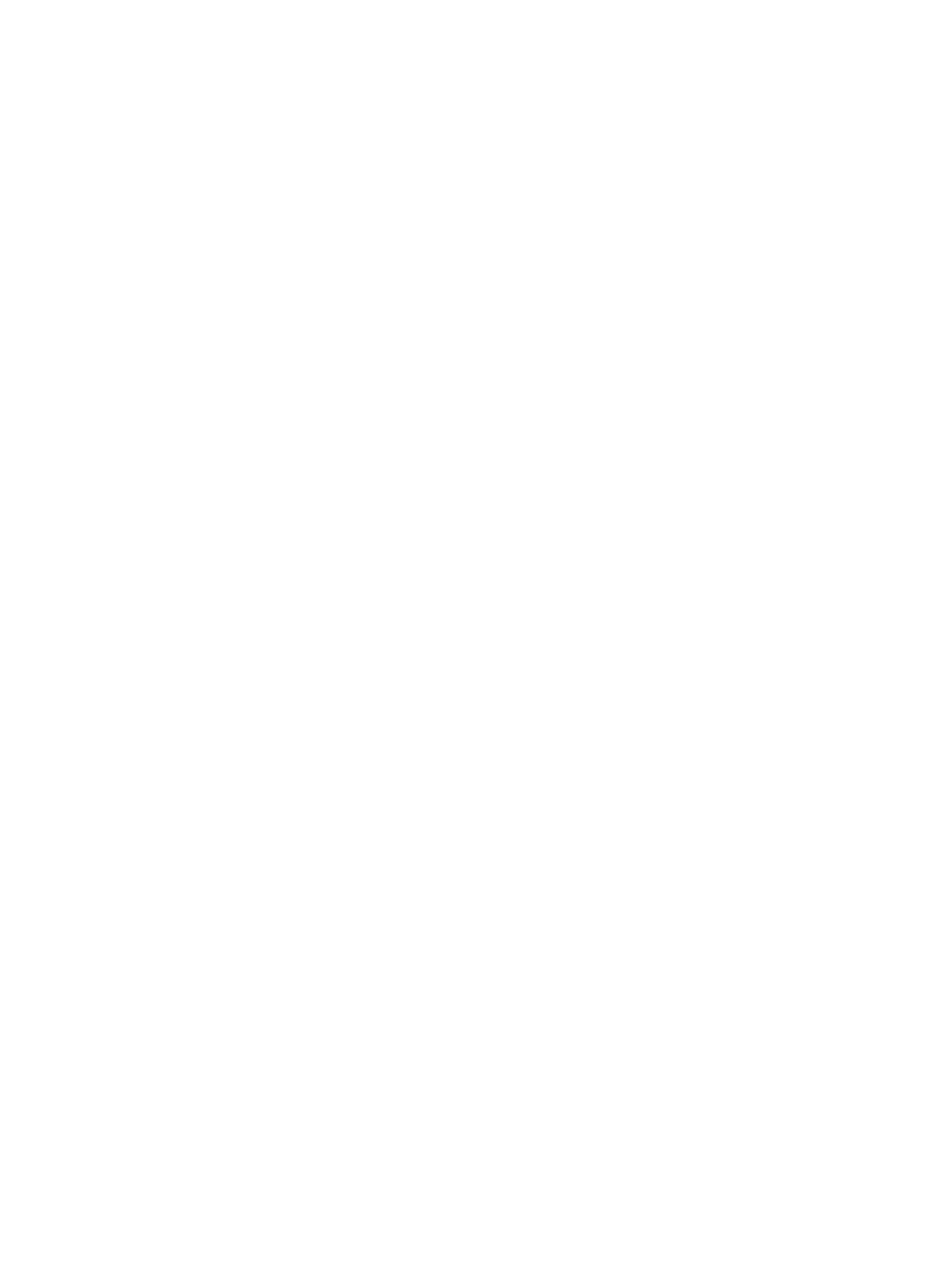
Важно понимать:
«Я понимаю апокалипсис в его первоначальном греческом значении — откровение, раскрытие, поднятие завесы. С катастрофической ясностью раскрывается то, что было скрыто за удобными различиями между активным Человеком и пассивной инертной Природой».
Это и есть задача современного искусства — снимать завесы.
Автор идеи проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: из личного архива Александра Никольского/Макар Гречишкин
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: из личного архива Александра Никольского/Макар Гречишкин