«Я не умею говорить нет»: интервью с искусствоведом Натальей Поповой
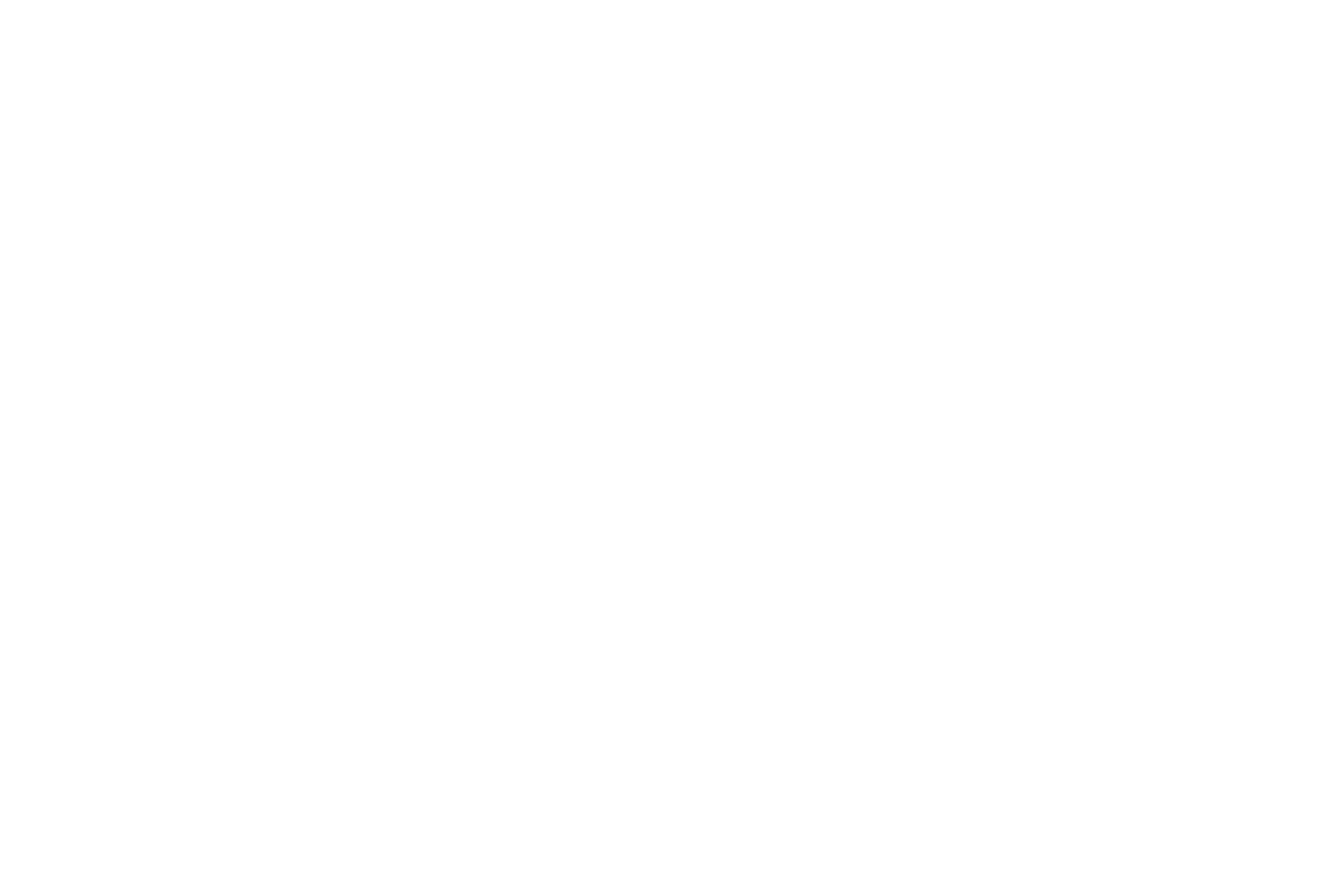
Наталья Попова — кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения КемГИК, председатель Кемеровского отделения Союза дизайнеров России, коллекционер. Её история профессионального становления про искусство маленьких шагов и умение чутко слышать себя.
Мы поговорили с Натальей о пути в профессии, работе со студентами, региональном искусстве и том, как "неумение говорить нет" привело к самым интересным поворотам в её карьере.
Мы поговорили с Натальей о пути в профессии, работе со студентами, региональном искусстве и том, как "неумение говорить нет" привело к самым интересным поворотам в её карьере.
Коллекция дипломов и нет дискомфорту
— Наташа, расскажите о своём образовании. У вас два высших?
— О, у меня целая коллекция дипломов! (Смеётся) Первое образование — культуролог. Закончила в 2002 году Кемеровскую академию культуры и искусств по специальности «Культурология» с правом преподавания мировой художественной культуры. Второе высшее получила в Алтайском государственном университете в 2007-м — искусствовед.
Выбор был вполне логичным: у меня явно гуманитарный склад ума. Я рассматривала и Кемеровский государственный университет, ходила на подготовительные курсы, но быстро поняла — не моя стихия.
— Почему?
— Я училась в камерной школе №8, в выпускном классе нас было всего восемнадцать человек. Серьёзной конкуренции не было. А на подготовительных курсах в университете познакомилась с выпускниками престижных гимназий и лицеев.
Но дело не только в конкуренции. Меня отталкивала обязательная археологическая практика. Я категорически не переношу дискомфорт, а перспектива летних раскопок в полевых условиях... Нет уж, увольте!
Забавно, что мой будущий муж выбрал философский факультет Томского университета тоже из-за скепсиса к археологической практике у историков.
— Где вы познакомились с мужем?
— Он преподавал у нас — молодой аспирант, вёл семинары. Сейчас работает в Кемеровском государственном медицинском университете. Но романтика началась не сразу — долгое время мы были просто друзьями. Я считаю, что человека нужно хорошо узнать, прежде чем позволить ему войти в твою жизнь всерьёз. Поэтому десять лет мы общались как коллеги — у каждого была своя жизнь, свои интересы.
— О, у меня целая коллекция дипломов! (Смеётся) Первое образование — культуролог. Закончила в 2002 году Кемеровскую академию культуры и искусств по специальности «Культурология» с правом преподавания мировой художественной культуры. Второе высшее получила в Алтайском государственном университете в 2007-м — искусствовед.
Выбор был вполне логичным: у меня явно гуманитарный склад ума. Я рассматривала и Кемеровский государственный университет, ходила на подготовительные курсы, но быстро поняла — не моя стихия.
— Почему?
— Я училась в камерной школе №8, в выпускном классе нас было всего восемнадцать человек. Серьёзной конкуренции не было. А на подготовительных курсах в университете познакомилась с выпускниками престижных гимназий и лицеев.
Но дело не только в конкуренции. Меня отталкивала обязательная археологическая практика. Я категорически не переношу дискомфорт, а перспектива летних раскопок в полевых условиях... Нет уж, увольте!
Забавно, что мой будущий муж выбрал философский факультет Томского университета тоже из-за скепсиса к археологической практике у историков.
— Где вы познакомились с мужем?
— Он преподавал у нас — молодой аспирант, вёл семинары. Сейчас работает в Кемеровском государственном медицинском университете. Но романтика началась не сразу — долгое время мы были просто друзьями. Я считаю, что человека нужно хорошо узнать, прежде чем позволить ему войти в твою жизнь всерьёз. Поэтому десять лет мы общались как коллеги — у каждого была своя жизнь, свои интересы.
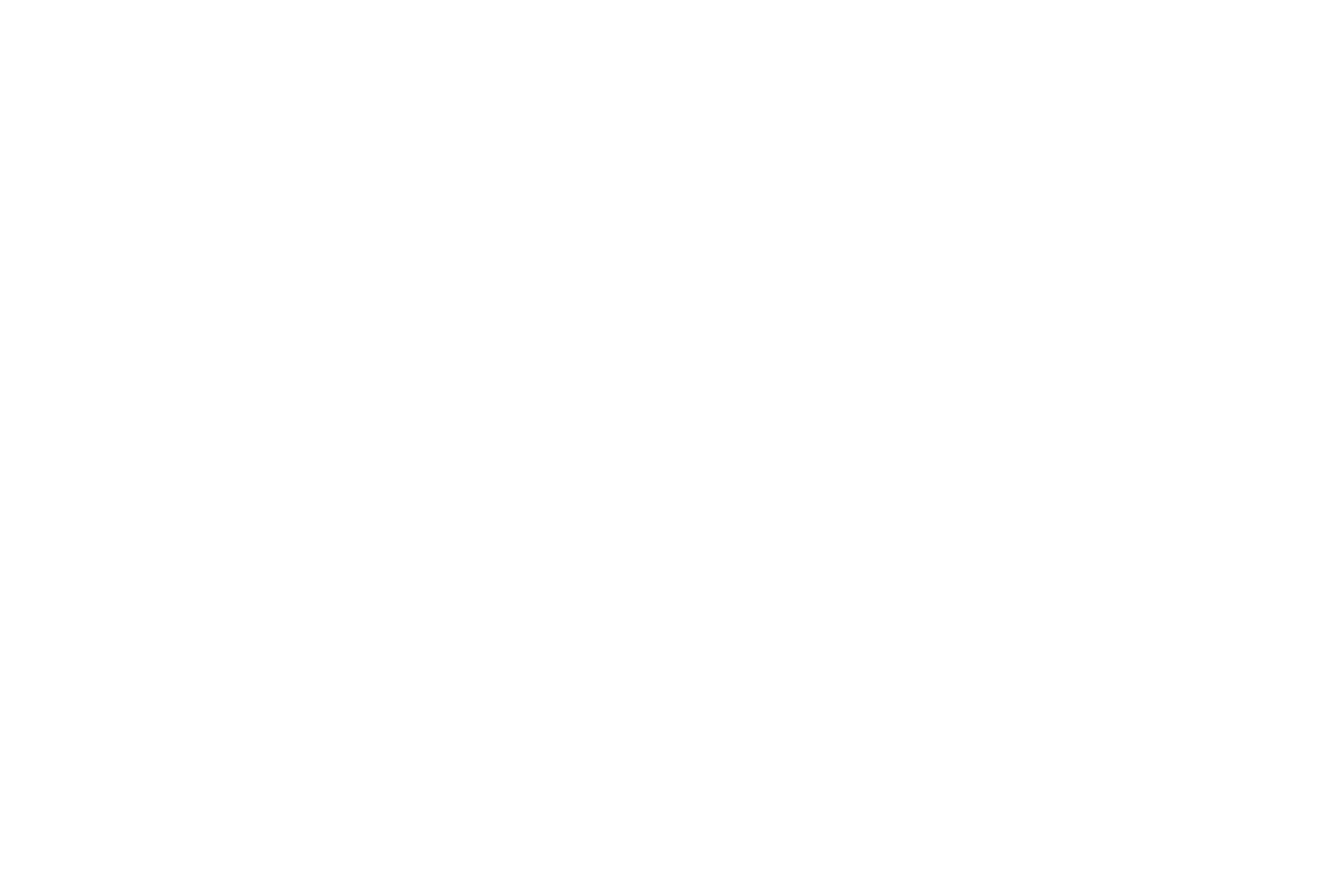
Опыт работы в школе — бесценен
— Как складывался ваш путь в профессию?
— Ключевую роль сыграла любовь к искусству. Поскольку искусствоведческой специальности у нас не было, культурология оказалась максимально близким вариантом.
А ещё произошёл курьёзный случай, который многое определил. В нашей школе действовал прямой договор с КемГИК — я сдавала пробные экзамены и получила двойку по литературе! Перепутала века, допустила грубые фактические ошибки. При том, что с историей у меня всё в порядке. До сих пор не понимаю, как так могло получиться.
После этого пришлось поступать на общих основаниях, упустив все льготы. Но, как говорится, не было бы счастья...
— Остались работать в вузе сразу после выпуска?
— Нет, судьба распорядилась иначе. Во-первых, мне не предложили остаться на кафедре. Во-вторых, подруга резонно заметила: "Наташ, зачем сразу бежать в вуз? Получи сначала практику". И я подумала — действительно, стоит попробовать.
Ещё на четвёртом-пятом курсе я начала работать в соседней школе. Знакомая бабушки предложила вакансию, мама напомнила о данном мною обещании вернуться после вуза в эту школу учителем. Плюс моя хроническая неспособность отказывать людям — эта черта проявилась уже тогда. В итоге получила полную ставку и после окончания вуза отправилась заниматься школьной педагогикой.
— Ключевую роль сыграла любовь к искусству. Поскольку искусствоведческой специальности у нас не было, культурология оказалась максимально близким вариантом.
А ещё произошёл курьёзный случай, который многое определил. В нашей школе действовал прямой договор с КемГИК — я сдавала пробные экзамены и получила двойку по литературе! Перепутала века, допустила грубые фактические ошибки. При том, что с историей у меня всё в порядке. До сих пор не понимаю, как так могло получиться.
После этого пришлось поступать на общих основаниях, упустив все льготы. Но, как говорится, не было бы счастья...
— Остались работать в вузе сразу после выпуска?
— Нет, судьба распорядилась иначе. Во-первых, мне не предложили остаться на кафедре. Во-вторых, подруга резонно заметила: "Наташ, зачем сразу бежать в вуз? Получи сначала практику". И я подумала — действительно, стоит попробовать.
Ещё на четвёртом-пятом курсе я начала работать в соседней школе. Знакомая бабушки предложила вакансию, мама напомнила о данном мною обещании вернуться после вуза в эту школу учителем. Плюс моя хроническая неспособность отказывать людям — эта черта проявилась уже тогда. В итоге получила полную ставку и после окончания вуза отправилась заниматься школьной педагогикой.
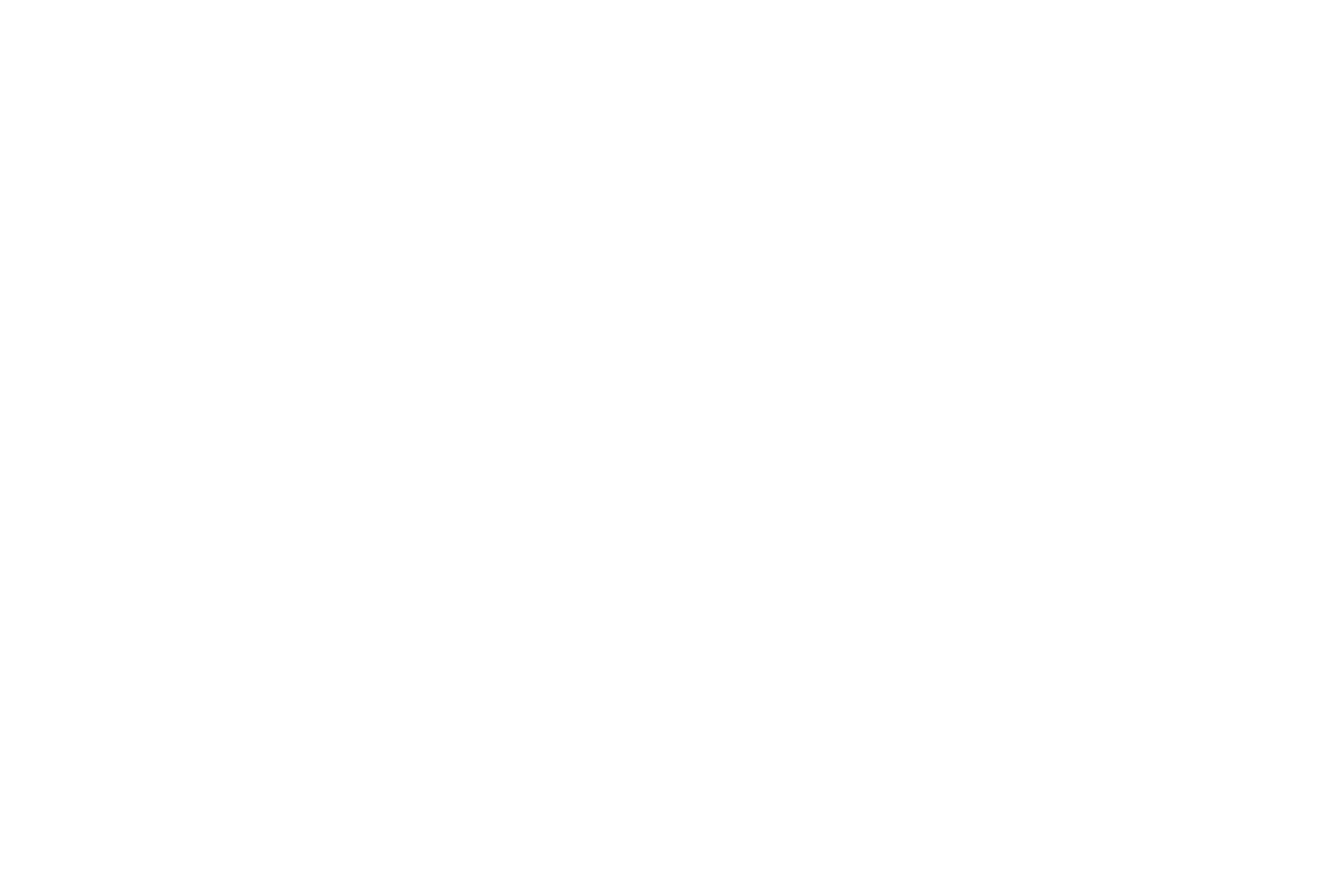
— Что преподавали?
— Мировую художественную культуру — мою любимую дисциплину. Позже добавились всевозможные факультативы.
Работа оказалась непростой из-за специфики учеников — так называемые коррекционные классы, которые тогда были в моде. Сейчас от этой практики отказались, поскольку поняли: дети усваивают негативные модели поведения друг от друга, тогда как должны тянуться за успешными одноклассниками. В таких классах я столкнулась с целым комплексом проблем: дисциплинарные сложности, тяжёлые социальные условия детей, их преждевременное взросление.
Но тот школьный опыт оказался бесценным! Сейчас он помогает мне в работе с одарёнными детьми в "Сириусе", с участниками олимпиад по МХК, в преподавании методических дисциплин. Методические навыки я оттачивала именно в школьной практике.
— Мировую художественную культуру — мою любимую дисциплину. Позже добавились всевозможные факультативы.
Работа оказалась непростой из-за специфики учеников — так называемые коррекционные классы, которые тогда были в моде. Сейчас от этой практики отказались, поскольку поняли: дети усваивают негативные модели поведения друг от друга, тогда как должны тянуться за успешными одноклассниками. В таких классах я столкнулась с целым комплексом проблем: дисциплинарные сложности, тяжёлые социальные условия детей, их преждевременное взросление.
Но тот школьный опыт оказался бесценным! Сейчас он помогает мне в работе с одарёнными детьми в "Сириусе", с участниками олимпиад по МХК, в преподавании методических дисциплин. Методические навыки я оттачивала именно в школьной практике.
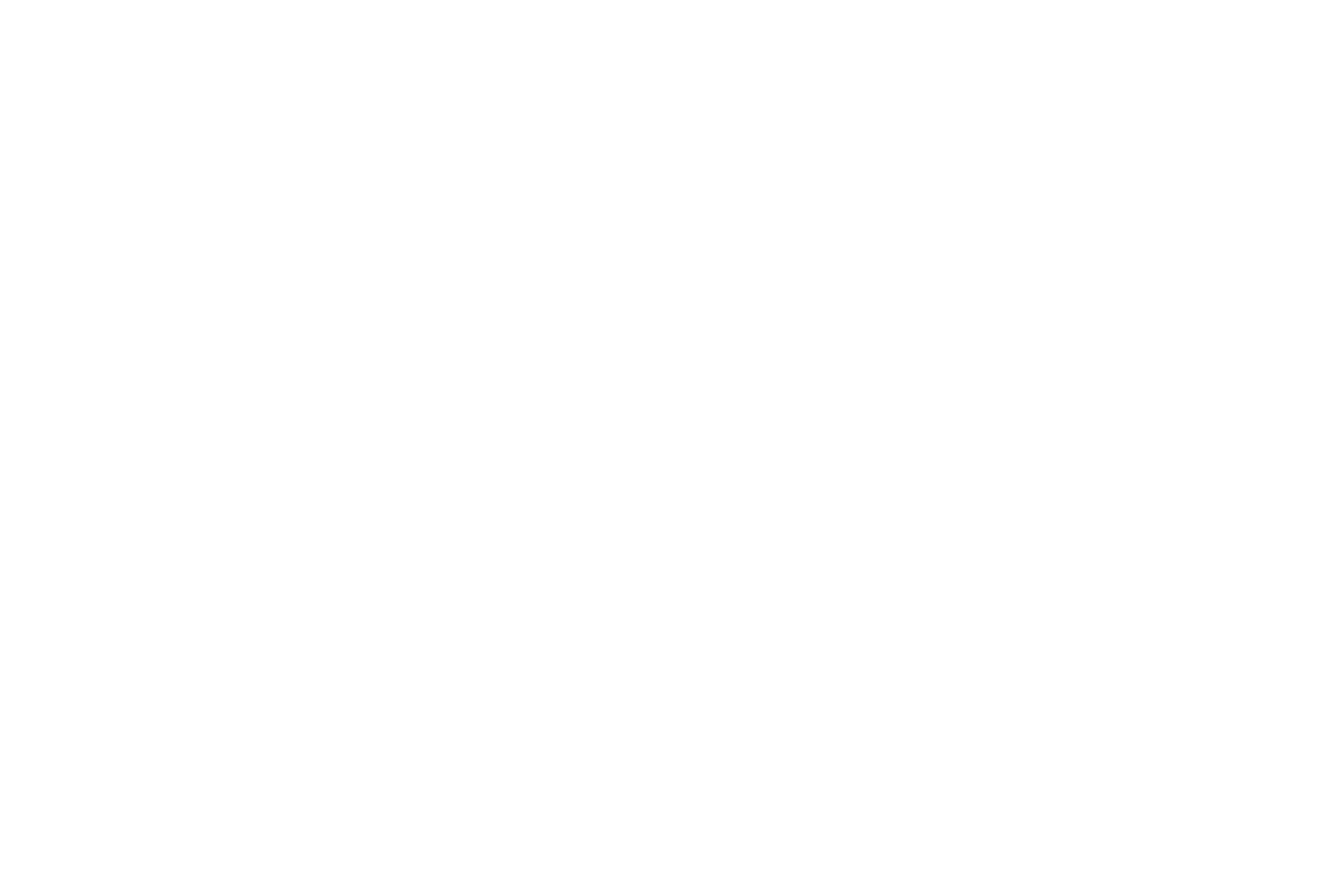
То, что люблю и немного денег
— Как произошёл переход в вуз?
— После двух лет работы учителем стало ясно: чтобы остаться в образовании надолго, нужно переквалифицироваться на преподавании истории или литературы и вести основные предметы. МХК всегда балансировала на периферии — при любых реформах её исключали первой. Что, собственно, и произошло: сейчас МХК преподают только в гимназиях и лицеях.
И тут появилась возможность в институтском музее истории костюма, где работала моя подруга. С директором музея Викторией Петровной Геращенко у нас сложились тёплые отношения — ей сейчас уже 87 лет, а мы до сих пор дружим. Полных ставок не было, Виктория Петровна выделила мне четверть ставки с зарплатой 2500 рублей. В школе платили несравнимо больше, но я без колебаний согласилась!
— Любовь к искусству сильнее материальных соображений?
— Именно! Я могла заниматься тем, что действительно люблю. Совмещала музейную работу с преподаванием в школе. Когда объявила о намерении полностью уйти из школы мужу, он справедливо заметил: "Опять останемся без денег" (у нас на горизонте маячила ипотека). Но я объяснила: школьная зарплата обходилась мне слишком дорого в эмоциональном плане. "Мы не разбогатеем, зато сохраним мои нервы".
В музее я проводила экскурсии, занималась инвентаризацией, осваивала музейную рутину. Когда наступило лёгкое пресыщение, я предложила Виктории Петровне: "А давайте поучаствуем в конференции!" Ежегодно проводилась аспирантская конференция, и я решила попробовать свои силы. Признаюсь честно — больше от скуки.
После выступления мне предложили поступать в аспирантуру Олег Юрьевич Астахов и Геннадий Николаевич Миненко. Видимо, я произвела определённое впечатление. Наконец-то появился реальный шанс, и я его не упустила.
— После двух лет работы учителем стало ясно: чтобы остаться в образовании надолго, нужно переквалифицироваться на преподавании истории или литературы и вести основные предметы. МХК всегда балансировала на периферии — при любых реформах её исключали первой. Что, собственно, и произошло: сейчас МХК преподают только в гимназиях и лицеях.
И тут появилась возможность в институтском музее истории костюма, где работала моя подруга. С директором музея Викторией Петровной Геращенко у нас сложились тёплые отношения — ей сейчас уже 87 лет, а мы до сих пор дружим. Полных ставок не было, Виктория Петровна выделила мне четверть ставки с зарплатой 2500 рублей. В школе платили несравнимо больше, но я без колебаний согласилась!
— Любовь к искусству сильнее материальных соображений?
— Именно! Я могла заниматься тем, что действительно люблю. Совмещала музейную работу с преподаванием в школе. Когда объявила о намерении полностью уйти из школы мужу, он справедливо заметил: "Опять останемся без денег" (у нас на горизонте маячила ипотека). Но я объяснила: школьная зарплата обходилась мне слишком дорого в эмоциональном плане. "Мы не разбогатеем, зато сохраним мои нервы".
В музее я проводила экскурсии, занималась инвентаризацией, осваивала музейную рутину. Когда наступило лёгкое пресыщение, я предложила Виктории Петровне: "А давайте поучаствуем в конференции!" Ежегодно проводилась аспирантская конференция, и я решила попробовать свои силы. Признаюсь честно — больше от скуки.
После выступления мне предложили поступать в аспирантуру Олег Юрьевич Астахов и Геннадий Николаевич Миненко. Видимо, я произвела определённое впечатление. Наконец-то появился реальный шанс, и я его не упустила.
Создание искусствоведческого направления
— Как появились студенты-искусствоведы? Это была ваша инициатива?
— Это инициативный проект, рождённый из практической необходимости. Когда я училась в аспирантуре, нашу дисциплину перевели на кафедру музыки для создания искусствоведческой кафедры при музыкальном факультете.
Сложилась критическая ситуация: мои часы постепенно сокращались в связи с переходом на новые федеральные стандарты. История искусства — дисциплина поточная, многие кафедры отказывались от неё в пользу более узких специализаций. Мне грозила потеря ставки после декрета.
Владимир Иванович Бедин, тогда советник ректора КемГИК, предложил элегантное решение: "Открою вам новые специальности". И сдержал слово — наш вуз получил лицензию на обучение по направлению подготовки "Теория и история искусств".
Получив право набора, я с энтузиазмом воскликнула: "Давайте набирать студентов!" Но учить искусствоведов сферы изобразительного искусства, работая в структуре музыкального факультета, было абсолютно не логично. Но другие кафедры нас принимали. Нам помогла Оксана Владимировна Ртищева, декан социально-гуманитарного факультета КемГИК. Она взяла ответственность за подготовку студентов «Теории и истории искусств». Мы с радостью снова вернулись на кафедру культурологии.
— Это инициативный проект, рождённый из практической необходимости. Когда я училась в аспирантуре, нашу дисциплину перевели на кафедру музыки для создания искусствоведческой кафедры при музыкальном факультете.
Сложилась критическая ситуация: мои часы постепенно сокращались в связи с переходом на новые федеральные стандарты. История искусства — дисциплина поточная, многие кафедры отказывались от неё в пользу более узких специализаций. Мне грозила потеря ставки после декрета.
Владимир Иванович Бедин, тогда советник ректора КемГИК, предложил элегантное решение: "Открою вам новые специальности". И сдержал слово — наш вуз получил лицензию на обучение по направлению подготовки "Теория и история искусств".
Получив право набора, я с энтузиазмом воскликнула: "Давайте набирать студентов!" Но учить искусствоведов сферы изобразительного искусства, работая в структуре музыкального факультета, было абсолютно не логично. Но другие кафедры нас принимали. Нам помогла Оксана Владимировна Ртищева, декан социально-гуманитарного факультета КемГИК. Она взяла ответственность за подготовку студентов «Теории и истории искусств». Мы с радостью снова вернулись на кафедру культурологии.
Заведующая кафедрой Анастасия Сергеевна Двуреченская выделила ставки, я, Евгения Николаевна Черняева, Людмила Владимировна Оленич разработали учебный план, программы дисциплин, подготовили документацию и открыли направление. В 2013 году состоялся исторический первый набор: Виктор Кайгородов — сейчас известный новокузнецкий экскурсовод — и ещё одна студентка. Всего два бюджетных места. Виктор героически доучился, девушка, к сожалению, ушла. Но начало было положено!
Зато сейчас формируются потрясающие межрегиональные группы! В прошлом году первый курс был полностью межрегиональным — местных только четверо из двенадцати. География впечатляет: Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Ростов. Электронная подача документов расширила географию выбора, и наша программа привлекает широтой профиля — готовим специалистов и по изобразительному искусству, а также по истории и теории театра и кино.
Особенно радуют новокузнецкие выпускники. Художник и идейный вдохновитель многих выставочных проектов Александр Васильевич Суслов и нынешний председатель Новокузнецкого отделения Союза художников России Екатерина Владимировна Чепис заранее присматривают наших старшекурсников для выполнения искусствоведческой работы. Постепенно и достаточно органично наши выпускники вписываются в художественную жизнь Новокузнецка, вступают в профессиональные союзы, выходят на общесибирский уровень.
Зато сейчас формируются потрясающие межрегиональные группы! В прошлом году первый курс был полностью межрегиональным — местных только четверо из двенадцати. География впечатляет: Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Ростов. Электронная подача документов расширила географию выбора, и наша программа привлекает широтой профиля — готовим специалистов и по изобразительному искусству, а также по истории и теории театра и кино.
Особенно радуют новокузнецкие выпускники. Художник и идейный вдохновитель многих выставочных проектов Александр Васильевич Суслов и нынешний председатель Новокузнецкого отделения Союза художников России Екатерина Владимировна Чепис заранее присматривают наших старшекурсников для выполнения искусствоведческой работы. Постепенно и достаточно органично наши выпускники вписываются в художественную жизнь Новокузнецка, вступают в профессиональные союзы, выходят на общесибирский уровень.
Гуманитарное призвание как поздний дар
— Мне всегда было интересно, когда люди приходят к пониманию и признанию типа своего мышления?
— У меня есть наблюдение: гуманитарная одарённость проявляется гораздо позже математической. Если математические способности очевидны уже в ранних классах школы и требуют немедленного развития, то гуманитарное призвание часто обнаруживается неожиданно. Выпускники школ порой даже не подозревают о своей истинной природе.
Классический пример — мой муж. Сначала он поступил на техническую специальность, серьёзно увлекался физикой, а в итоге закончил философский факультет.
Сейчас мой сын убеждённо заявляет: "Я технарь!" При этом русский и английский сдал на отлично, а физику и математику — на хорошо. Муж объясняет ему: "В нашей семье мужчины традиционно увлекаются точными науками в юности, но со временем обнаруживается гуманитарное призвание".
Поэтому позднее самоопределение — абсолютно нормально.
— У меня есть наблюдение: гуманитарная одарённость проявляется гораздо позже математической. Если математические способности очевидны уже в ранних классах школы и требуют немедленного развития, то гуманитарное призвание часто обнаруживается неожиданно. Выпускники школ порой даже не подозревают о своей истинной природе.
Классический пример — мой муж. Сначала он поступил на техническую специальность, серьёзно увлекался физикой, а в итоге закончил философский факультет.
Сейчас мой сын убеждённо заявляет: "Я технарь!" При этом русский и английский сдал на отлично, а физику и математику — на хорошо. Муж объясняет ему: "В нашей семье мужчины традиционно увлекаются точными науками в юности, но со временем обнаруживается гуманитарное призвание".
Поэтому позднее самоопределение — абсолютно нормально.
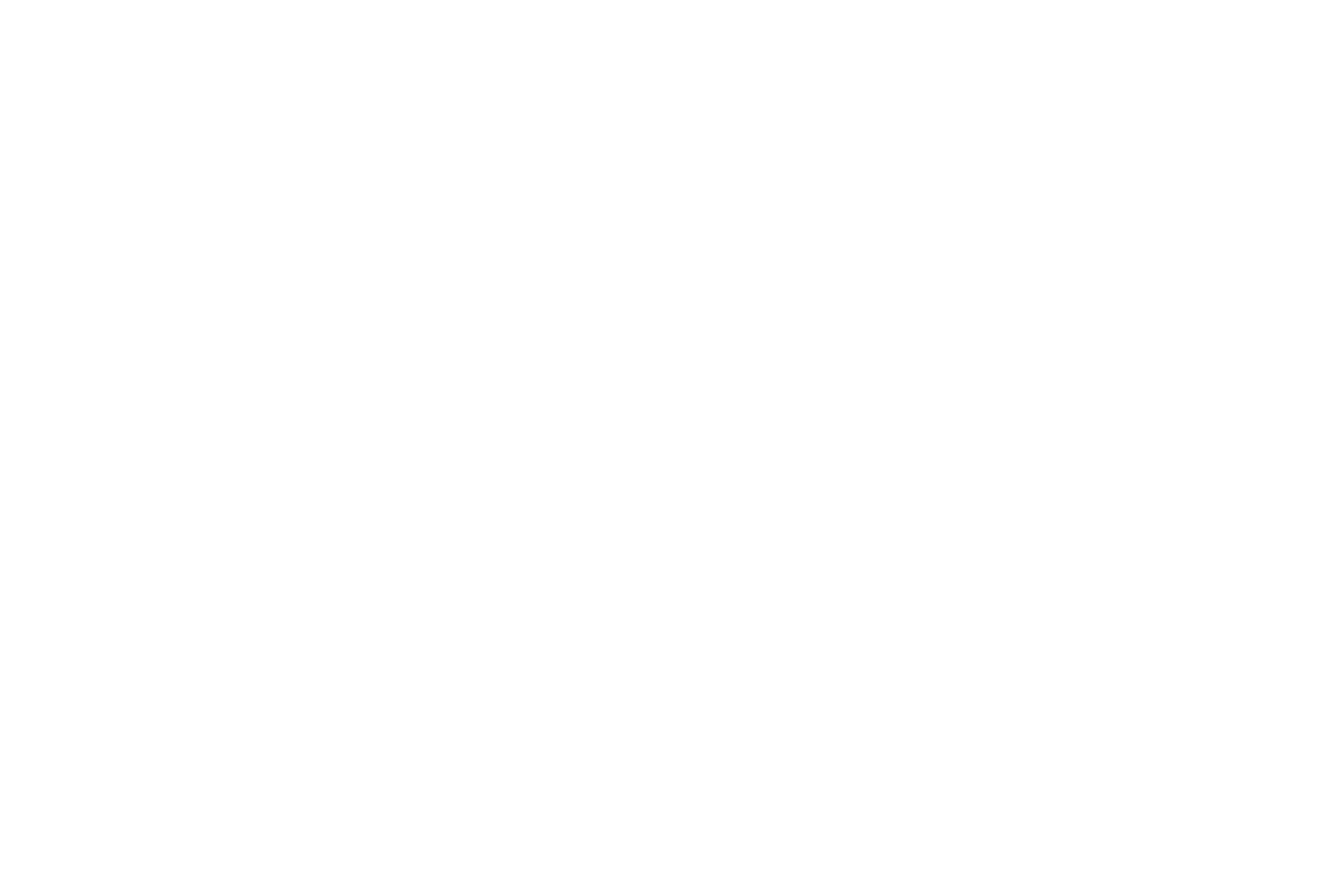
Неумение говорить «нет» и Союз дизайнеров
— Как вы стали председателем Союза дизайнеров?
— Классическая история моей неспособности отказывать! (Смеётся)
— Отличный заголовок для интервью!
— Пусть будет! Хотя коллеги возразят — я умею быть довольно категоричной, когда считаю нужным.
Союз дизайнеров был создан в 2015 году по инициативе кафедры дизайна. Первый председатель — Гагик Юрикович Мхитарян, профессор кафедры дизайна. Учредители — он же и Геннадий Симонович Елисеенков, член СДР, профессор кафедры дизайна КемГИК. Изначально наши отношения были..., скажем так, прохладными. Я имею привычку задавать неудобные вопросы на конференциях, что воспринималось как излишняя критичность.
Но время — лучший лекарь. Отношения потеплели, возможно, коллеги привыкли к моему характеру, или я оказалась не такой неуправляемой, как казалось. Гагик Юрикович предложил вступить в союз: "Нам нужен искусствовед". Мы как раз организовывали выставку, и я согласилась.
— Классическая история моей неспособности отказывать! (Смеётся)
— Отличный заголовок для интервью!
— Пусть будет! Хотя коллеги возразят — я умею быть довольно категоричной, когда считаю нужным.
Союз дизайнеров был создан в 2015 году по инициативе кафедры дизайна. Первый председатель — Гагик Юрикович Мхитарян, профессор кафедры дизайна. Учредители — он же и Геннадий Симонович Елисеенков, член СДР, профессор кафедры дизайна КемГИК. Изначально наши отношения были..., скажем так, прохладными. Я имею привычку задавать неудобные вопросы на конференциях, что воспринималось как излишняя критичность.
Но время — лучший лекарь. Отношения потеплели, возможно, коллеги привыкли к моему характеру, или я оказалась не такой неуправляемой, как казалось. Гагик Юрикович предложил вступить в союз: "Нам нужен искусствовед". Мы как раз организовывали выставку, и я согласилась.
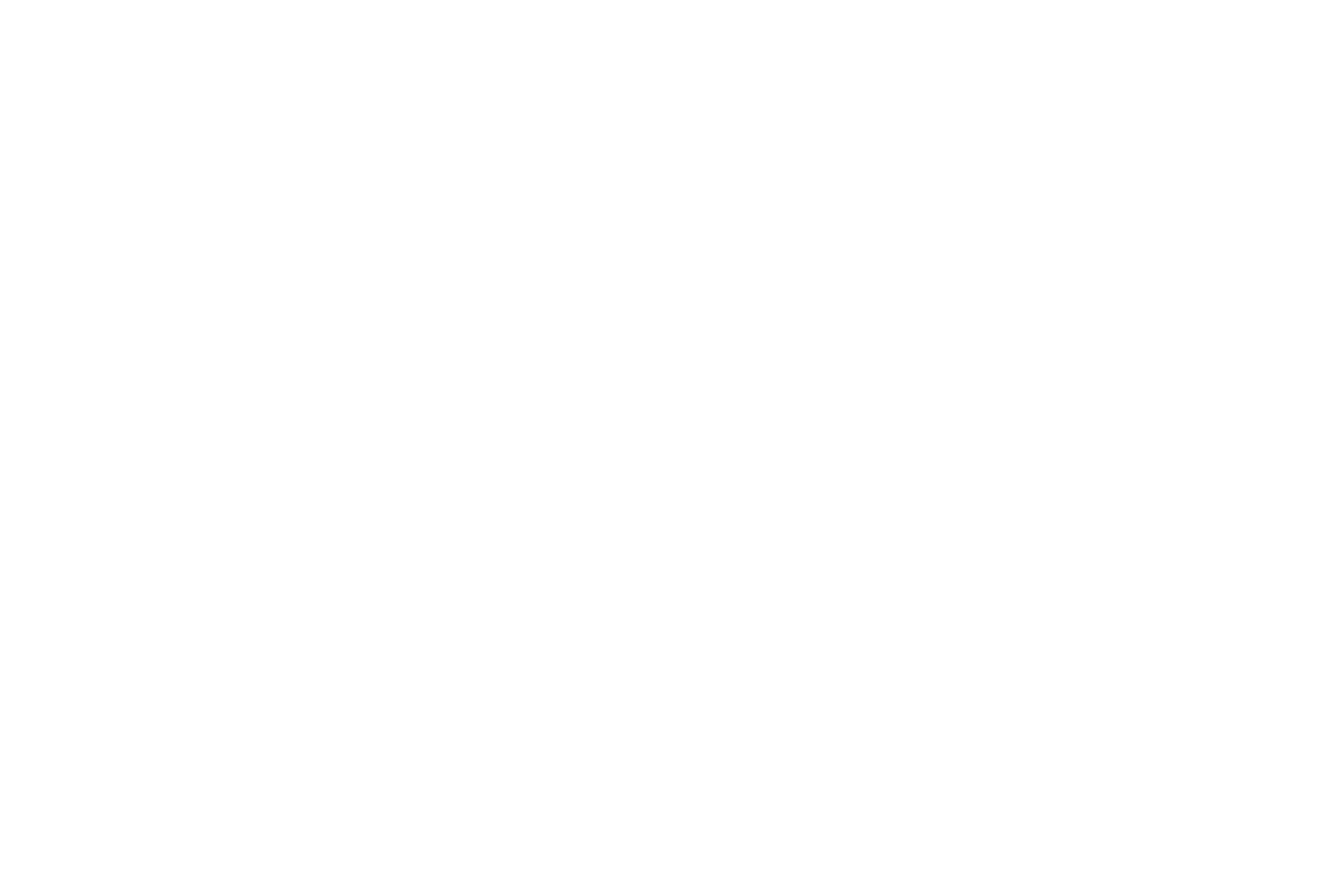
А дальше — как в анекдоте. Он говорит: "Приходи на собрание. Кстати, можешь чем-нибудь руководить?" Я подумала о молодёжной секции, какой-нибудь приятной общественной нагрузке и согласилась. А он взял и предложил мою кандидатуру на пост председателя! Гагик Юрикович снимался досрочно после почти пятилетнего срока. Поскольку большинство членов правления — преподаватели, которые меня знали, они проголосовали "за". На следующее утро я растерянно спрашивала: "Что вообще произошло?"
— Как складывается работа в Союзе?
— Я была приятно удивлена! У нас дизайн-образование на впечатляюще высоком уровне, особенно методологически. Геннадий Симонович вызывает моё безграничное восхищение — он создал безупречную систему подготовки дизайнеров.
Мне очень нравится работать с молодёжью. Когда мы реализуем проекты, я всегда привлекаю к созданию афиш разных дизайнеров — молодых членов союза, выпускников, студентов. Геннадий Симонович строит обучение на жёстких принципах проектирования, виртуозно объясняя методологию. Его подход исключительно эффективен — неслучайно он выпускник педагогического вуза, работа со студентами отлажена до совершенства.
— Как складывается работа в Союзе?
— Я была приятно удивлена! У нас дизайн-образование на впечатляюще высоком уровне, особенно методологически. Геннадий Симонович вызывает моё безграничное восхищение — он создал безупречную систему подготовки дизайнеров.
Мне очень нравится работать с молодёжью. Когда мы реализуем проекты, я всегда привлекаю к созданию афиш разных дизайнеров — молодых членов союза, выпускников, студентов. Геннадий Симонович строит обучение на жёстких принципах проектирования, виртуозно объясняя методологию. Его подход исключительно эффективен — неслучайно он выпускник педагогического вуза, работа со студентами отлажена до совершенства.
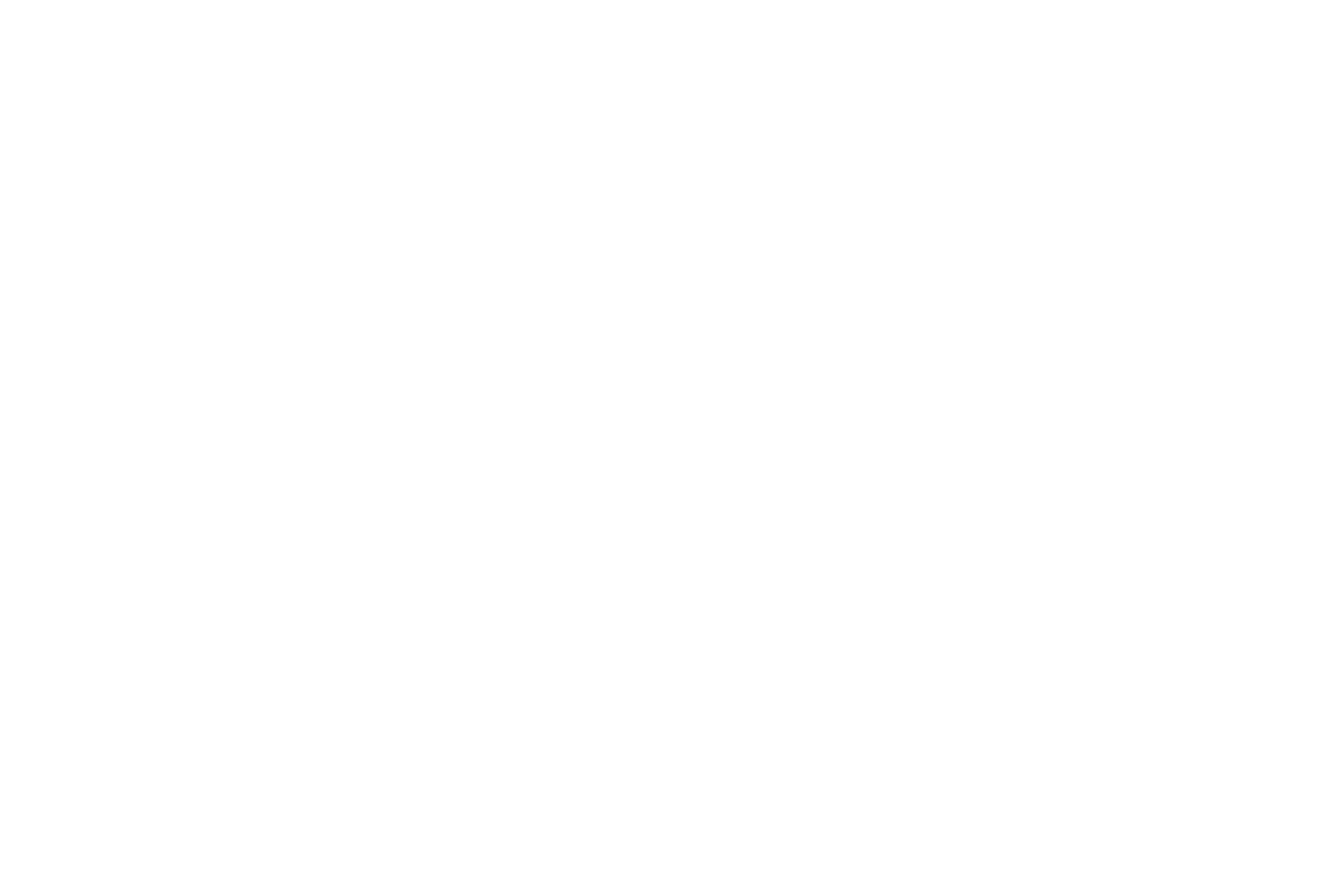
Региональное искусство и молодые авторы
— Ваш взгляд на региональное искусство? Есть ли будущее у молодых художников?
— Региональных художников знаю и искренне ценю. Они живые, находятся в постоянном творческом поиске. У меня есть концепция "горизонтальной истории искусства" — когда региональное творчество рассматривается не как периферия столичного, а как равноправное культурное явление. В этом смысле самостоятельность петербургского искусства очень льстит представителям регионов — оно ведь осознанно противопоставляет себя художественной культуре Москвы.
Молодых художников относительно немного — ощущается нехватка свежей крови по сравнению с бурными 70-80-ми. Но они есть, хотя часто ускользают от внимания старшего поколения.
Процессы в современном молодёжном искусстве кардинально изменились. Сейчас региональные традиции конкурируют с глобальными интернет-трендами. Мировая визуальная культура зачастую влияет сильнее местных корней. Если художник не попал под крыло авторитетного регионального мастера, он черпает вдохновение из самых разных источников.
— Региональных художников знаю и искренне ценю. Они живые, находятся в постоянном творческом поиске. У меня есть концепция "горизонтальной истории искусства" — когда региональное творчество рассматривается не как периферия столичного, а как равноправное культурное явление. В этом смысле самостоятельность петербургского искусства очень льстит представителям регионов — оно ведь осознанно противопоставляет себя художественной культуре Москвы.
Молодых художников относительно немного — ощущается нехватка свежей крови по сравнению с бурными 70-80-ми. Но они есть, хотя часто ускользают от внимания старшего поколения.
Процессы в современном молодёжном искусстве кардинально изменились. Сейчас региональные традиции конкурируют с глобальными интернет-трендами. Мировая визуальная культура зачастую влияет сильнее местных корней. Если художник не попал под крыло авторитетного регионального мастера, он черпает вдохновение из самых разных источников.
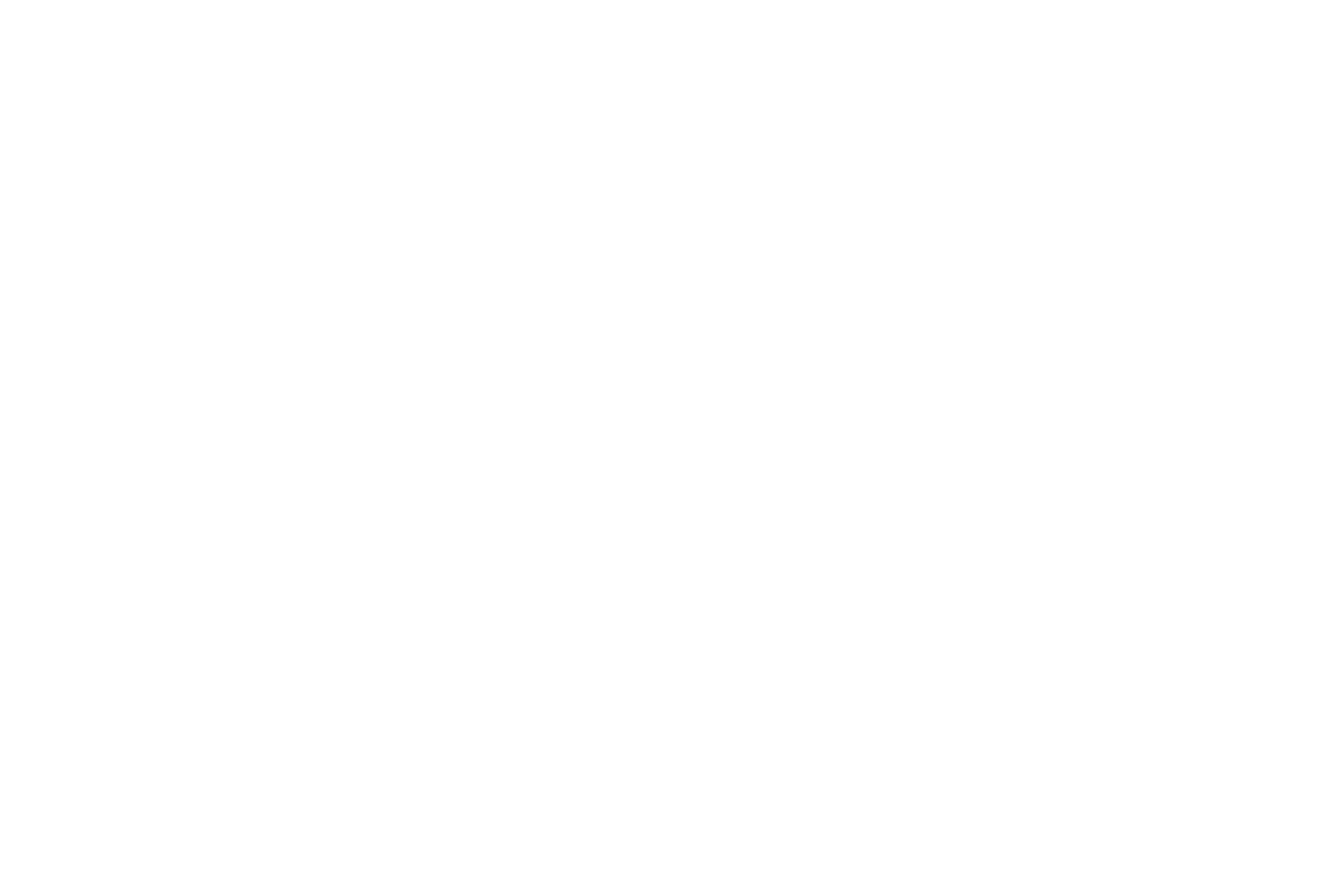
Критика как мотивация
— Как в регионе обстоят дела с профессиональной критикой?
— Профессиональная критика стимулирует развитие, не даёт застаиваться. Театральные деятели, кстати, говорят то же самое — без качественной критики в регионах трудно расти профессионально.
У нас в этой сфере настоящая катастрофа. Для развития критики нужны постоянные позиции в СМИ, а пока медиа не заинтересованы, специализированные интернет-сообщества только формируются. Без финансирования критика превращается в хобби для энтузиастов. А профессиональная критика требует системности, понимания аудитории, постоянной работы.
— Скажите кратко, что такое искусствоведение?
У меня есть убеждение: искусствоведение — это живительная сила для художественного процесса.
— Профессиональная критика стимулирует развитие, не даёт застаиваться. Театральные деятели, кстати, говорят то же самое — без качественной критики в регионах трудно расти профессионально.
У нас в этой сфере настоящая катастрофа. Для развития критики нужны постоянные позиции в СМИ, а пока медиа не заинтересованы, специализированные интернет-сообщества только формируются. Без финансирования критика превращается в хобби для энтузиастов. А профессиональная критика требует системности, понимания аудитории, постоянной работы.
— Скажите кратко, что такое искусствоведение?
У меня есть убеждение: искусствоведение — это живительная сила для художественного процесса.
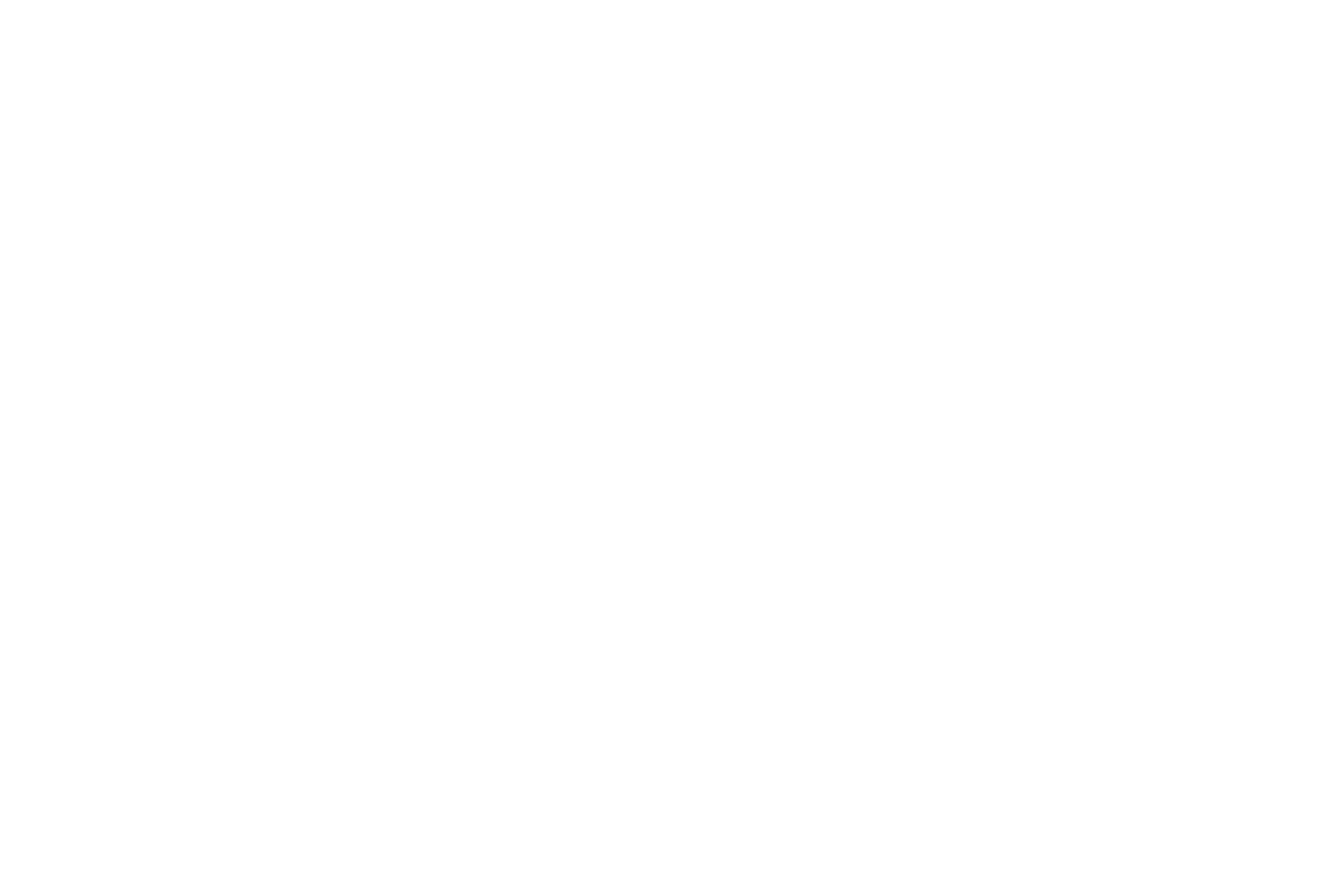
Каждый поворот в карьере Натальи Поповой кажется случайным, но в итоге складывается в цельную картину жизни настоящего профессионала. Человека, который понимает: иногда самые важные решения принимаются не головой, а сердцем, и самый верный выбор совершается из готовности довериться внутреннему компасу.
Идея проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Евгений Лехнер
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Евгений Лехнер