«Если хочешь чему-то научиться, начни это преподавать». История Елены Светлаковой
Елена Юрьевна Светлакова — заведующая кафедрой фотовидеотворчества КемГИК, кандидат философских наук, доцент.
Мы представляем вам удивительную историю человека, которого учиться в институт культуры «привёл» папа — Юрий Яковлевич Светлаков. Привёл, повлияв на решение дочери своим авторитетом, и в итоге определил её профессиональную судьбу.
Мы представляем вам удивительную историю человека, которого учиться в институт культуры «привёл» папа — Юрий Яковлевич Светлаков. Привёл, повлияв на решение дочери своим авторитетом, и в итоге определил её профессиональную судьбу.
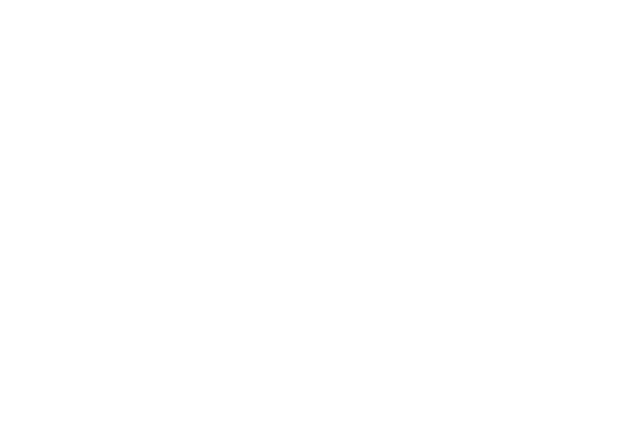
Семейные корни
Мои родители — шестидесятники, люди оттепели, особенные. Мама —стоматолог, папа — кинооператор. Мама Людмила Александровна умудрилась вылечить всех моих знакомых и друзей. «Пломбы, которые ваша мама поставила, больше полувека служат», — радостно сообщают мои престарелые однокашники при встрече. Папу многие знают — Юрий Яковлевич Светлаков, кинооператор, ВГИКовец, преподаватель, автор известных передач.
В доме у нас царила обстановка, которую можно увидеть в фильмах Марлена Хуциева «Мне 20 лет» или «Июльский дождь». Минимум мебели, зато много пространства для друзей и танцев (да! тогда люди ещё танцевали дома), бесконечные разговоры об искусстве, полное презрение к накопительству и всему материальному.
Я родилась в доме телевизионщиков на улице Гагарина, в классической хрущёвке. По семейным легендам родители забыли купить мне кровать, и я в младенчестве спала то на радиоприёмнике, то на 6 томах Сергея Эйзенштейна по разным версиям.
Я родилась в доме телевизионщиков на улице Гагарина, в классической хрущёвке. По семейным легендам родители забыли купить мне кровать, и я в младенчестве спала то на радиоприёмнике, то на 6 томах Сергея Эйзенштейна по разным версиям.
Да, детской кровати какое-то время не было, но зато в доме был книжный шкаф и сервант с двумя немецкими сервизами и чешскими фужерами, ковёр и телевизор. Всё это богатство обеспечила папина мама Глафира Ивановна, которая работала завмагом в Прокопьевске.
Она мне всё время говорила: «Ленушка, я тебя умоляю, иди в торговлю! И у тебя будет всё!»
Она мне всё время говорила: «Ленушка, я тебя умоляю, иди в торговлю! И у тебя будет всё!»
Две бабушки — два мира
Папина мама, Глафира Ивановна, была «богатая». С тремя классами образования всю жизнь проработала директором магазина. Её большой и ухоженный дом сверкал хрусталём, пах вкусной выпечкой, был устлан коврами. А ещё у неё был волшебный «блат», благодаря которому мы все не умерли с голоду, по её словам. Когда я читала классику про дворян и помещиков, «Грозу» или «Господ Головлёвых», скажем, я всегда представляла её дом на Ясной Поляне в Прокопьевске. Кстати, долгое время я думала, что именно там и жил Лев Николаевич Толстой! И да, баба Граня была ужас какая строгая — она занималась моим трудовым воспитанием: я вечно мыла тротуары, таскала дрова, выбивала палкой ковры.
Мамину маму, Анастасию Макаровну, не интересовали ковры — она была врачом в женской консультации в Кировском, её знал весь район. Баба Тася была сама доброта — в её скромном домишке никто не сходил с ума по чистоте, по распорядку дня. Можно было, например, позавтракать кульком конфет — никто ничего тебе не скажет.
Когда я читаю про бедных, но добрых, то в глазах стоит образ немного безвольной бабы Таси; когда про богатых и суровых — то, конечно, бабы Грани.
Когда я читаю про бедных, но добрых, то в глазах стоит образ немного безвольной бабы Таси; когда про богатых и суровых — то, конечно, бабы Грани.
Детство: барак напротив и профессорская квартира
Наш дом стоял напротив барака (сейчас на улице Гагарина их осталось немного). Там жили прекрасные люди, тоже ненавистники материального. У них просто ничего не было, даже стульев, потому что они всё пропивали. Зато у них было много детей — моих закадычных друзей.
Несмотря на запрет родителей «Через дорогу не перебегать!», я мчалась к своим сопливым барачным подружкам, в их прекрасный портал, где можно было делать всё, что хочешь: прыгать с сараев, жевать гудрон, сдавать бутылки, покупать кисель и грызть его.
Несмотря на запрет родителей «Через дорогу не перебегать!», я мчалась к своим сопливым барачным подружкам, в их прекрасный портал, где можно было делать всё, что хочешь: прыгать с сараев, жевать гудрон, сдавать бутылки, покупать кисель и грызть его.
С другой стороны нашего дома, на улице 9 Января, жила моя школьная подруга Катька Данкова, дочка известного профессора КемГУ. Катька была «ботаном», разводила рыбок, ещё мы вместе очень любили читать. У них в доме были книжные шкафы до потолка с древнерусской и прочей литературой. У Катьки было две бабушки, обе Юлии. Одна вечно читала Библию, другая пекла сногсшибательные торты.
Итак, я обреталась попеременно то в профессорской квартире, то в бараках. Такие вот контрасты.
Итак, я обреталась попеременно то в профессорской квартире, то в бараках. Такие вот контрасты.
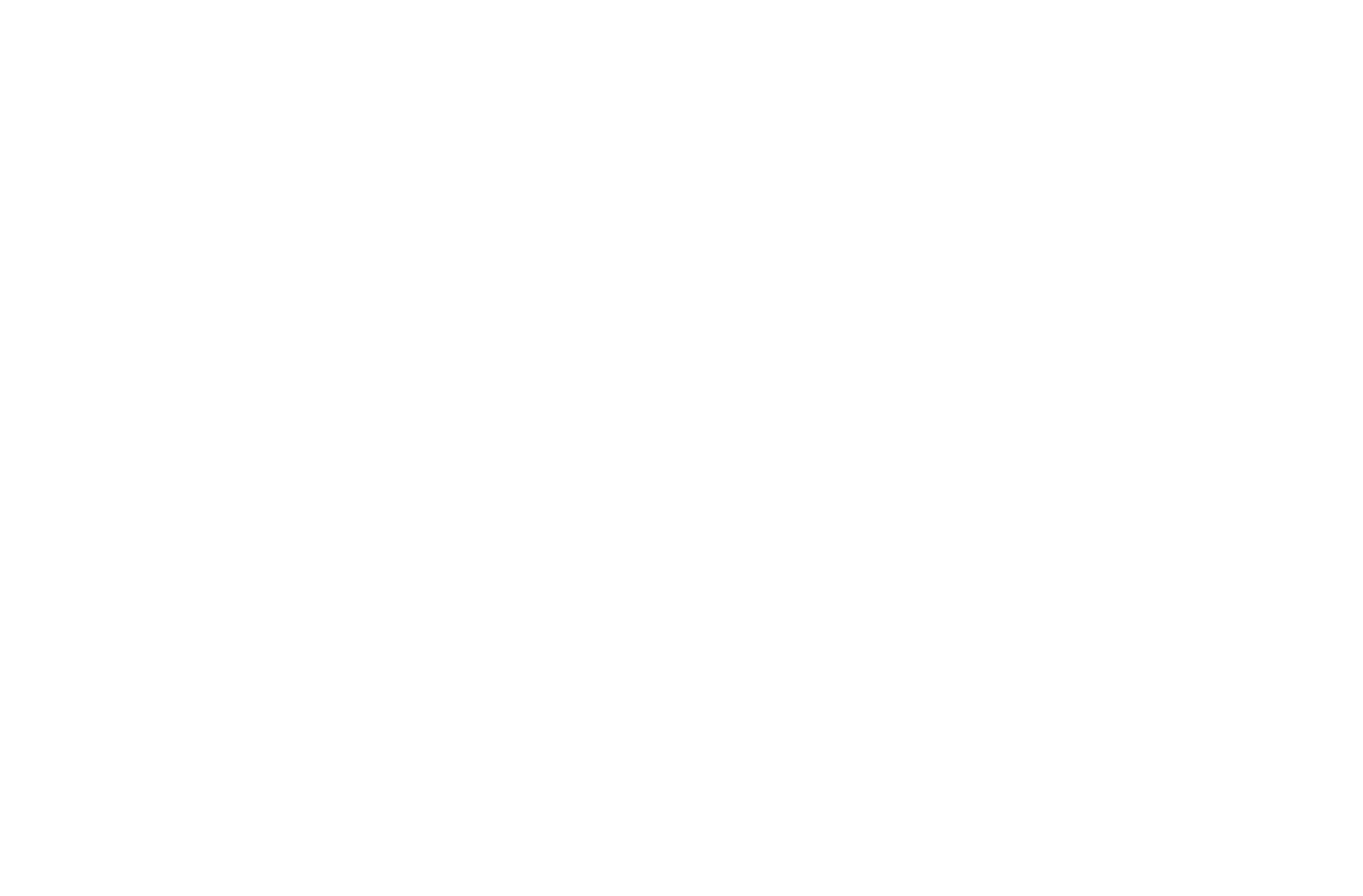
День рождения
1 июля, мой день рождения. Катька Данкова куда-то уехала, пришли мои барачные друзья. Они честно купили открытку, нарвали цветов. Вика Баева, дочка школьной технички, накануне попала под машину — тоже бегала через дорогу. Пришла вся в гипсе, только рот виден, полностью мумия. Но она могла пить «Буратино» через трубочку, а остальные ели торт «Ландыш» и радовались.
Сейчас мне 60, столько этих дней рождений прошло, самых разных: в дорогих отелях на берегу моря и просто дома, в кругу самых близких, в шумных компаниях, но вспоминаются те первые с газировкой, простыми моими подружками, с турецкой гвоздикой — любимыми цветами с детства.
Сейчас мне 60, столько этих дней рождений прошло, самых разных: в дорогих отелях на берегу моря и просто дома, в кругу самых близких, в шумных компаниях, но вспоминаются те первые с газировкой, простыми моими подружками, с турецкой гвоздикой — любимыми цветами с детства.
Школьные годы, или как я стала невидимкой
Сначала я училась в любимой 77-й школе — в ней были маленькие классы, и все знали друг друга. Там у нас были самые добрые и мудрые учителя, а директором был Гаврил Гаврилович Новиков, фронтовик, классный мужик. Но эту замечательную школу расформировали и всех нас «зафигачили» в восьмидесятку, которую, признаться, многие хотели сжечь. В этой школе у нас в классе было 45 человек, по трое сидели за партой, и я сразу поняла, что незаметно — пришла я в школу или нет. До фамилии Светлакова в учительском журнале — как до Египта, а учителя почему-то всех только по алфавиту спрашивали, доходили только до буквы «Б», тетради никогда не успевали проверять. Я подумала: «Зачем вообще учиться? Делать какие-то задания. Смысл?»
Кинотеатр вместо школы
В седьмом и восьмом классах я в школу не ходила — я сделала себе домашнее обучение, никто, кроме меня, об этом, правда, не знал. Утром родители уходили на работу, и я тоже с честным лицом шла, но только не в школу — я ехала в центр, в ДК Коксохимзавода (сейчас это Театр для детей и молодёжи), а тогда там был кинотеатр. В магазине на площади Пушкина продавались маленькие иностранные кусочки масла, я покупала булку и это масло и шла в кино, представляя, что я в Париже.
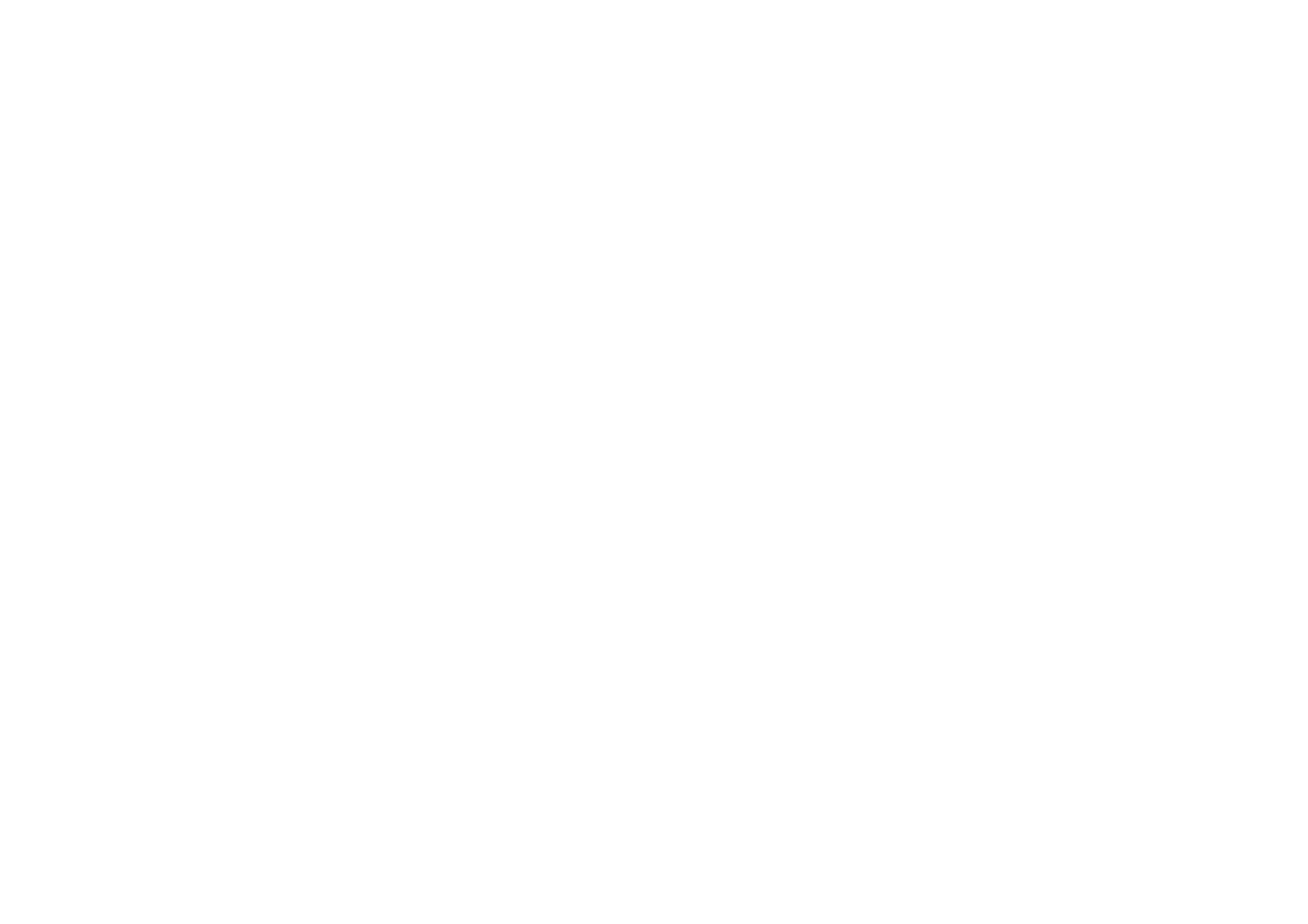
Какую только киноклассику я не пересмотрела! И Феллини, и Бергмана, и Антониони, и Висконти, и просто крутые американские фильмы. В зале обычно сидело два-три человека — я, какой-нибудь странный кинолюбитель и непременно бомж, тоже с батоном.
Когда пришло время экзаменов, оказалось, что Лена — полный ноль в математике, физике и химии. История, русский и литература были сданы на пятёрки, а вот с точными предметами — полный завал. Тем не менее, получив «радостные тройки» (это потому, что дали списать) по точным предметам, я пошла в десятый класс и там сделала то же самое — не ходила в школу. А это было уже заметно, так как многие ушли в ПТУ.
Когда пришло время экзаменов, оказалось, что Лена — полный ноль в математике, физике и химии. История, русский и литература были сданы на пятёрки, а вот с точными предметами — полный завал. Тем не менее, получив «радостные тройки» (это потому, что дали списать) по точным предметам, я пошла в десятый класс и там сделала то же самое — не ходила в школу. А это было уже заметно, так как многие ушли в ПТУ.
Гуманитарий поневоле
Как называется человек, совершенно тупой по всем точным наукам? Правильно! Гуманитарий!
У меня была подружка Ленка, очень хорошо шарившая в математике. Я приходила к ней перед школой в надежде списать домашнее задание, но она не давала списывать, а пыталась меня обучить — играла в учительницу, завела себе доску, что-то там писала мелом... Это было жестоко. «Светлакова, думай сама!» Я делала вид, что думаю.
У меня была подружка Ленка, очень хорошо шарившая в математике. Я приходила к ней перед школой в надежде списать домашнее задание, но она не давала списывать, а пыталась меня обучить — играла в учительницу, завела себе доску, что-то там писала мелом... Это было жестоко. «Светлакова, думай сама!» Я делала вид, что думаю.
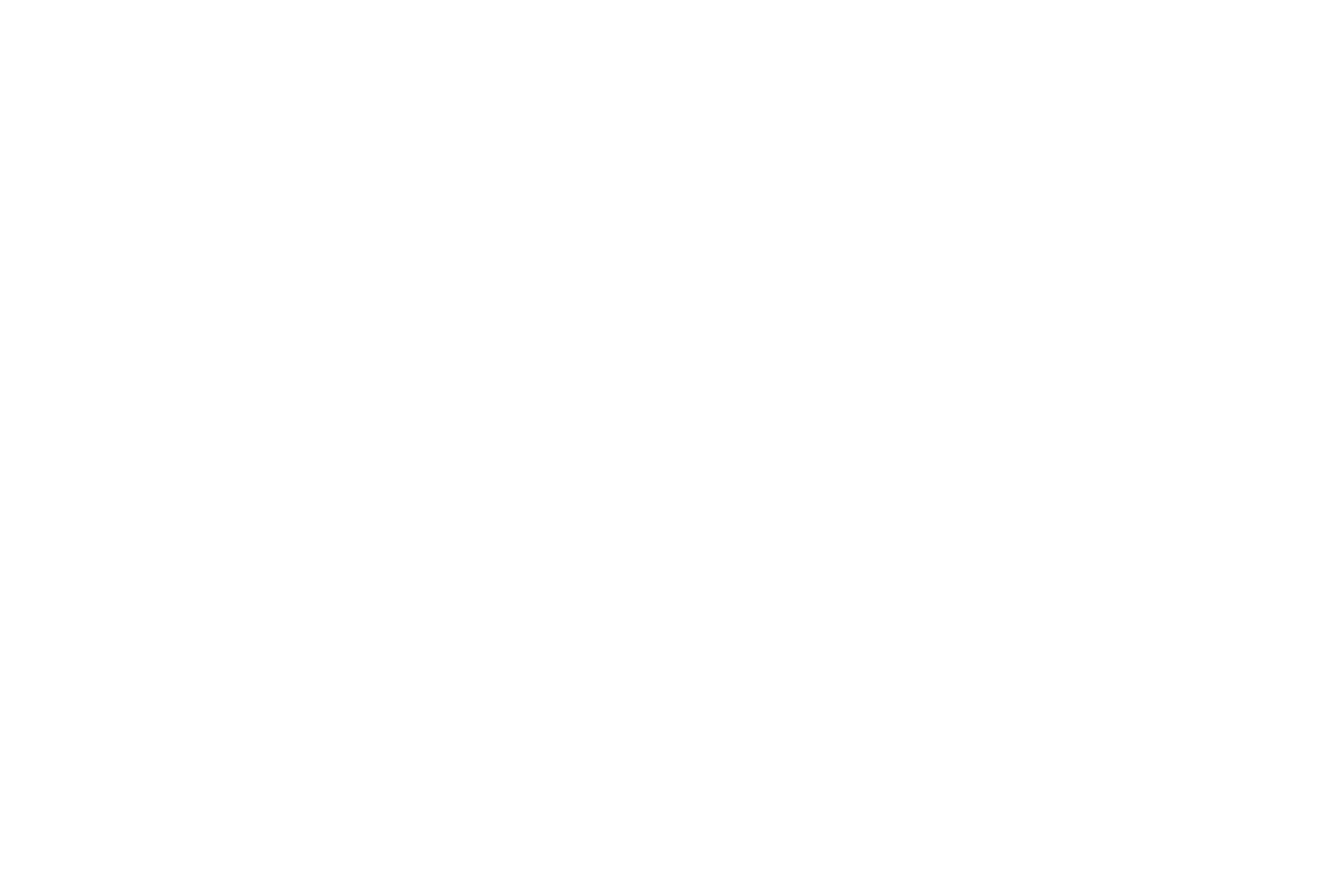
Пока Ленка уходила на кухню варить кофе, я молниеносно списывала всё из её тетради и продолжала делать вид, что думаю.
Кстати, сейчас я считаю математику и все точные науки потрясающе интересными и нужными, жалею, что они оказались вне зоны моих интересов в юности.
Кстати, сейчас я считаю математику и все точные науки потрясающе интересными и нужными, жалею, что они оказались вне зоны моих интересов в юности.
Хотя эта математика изрядно попортила мне нервы. Десятый класс я заканчивала издёрганной, с комплексом троечницы, похудевшая до неприличия. На выпускной все пришли в персиковом и белом, а я вся в чёрном, в знак протеста этому ужасному, пошлому, сытому, обывательскому миру, где нет места униженному и оскорблённому тупому троечнику.
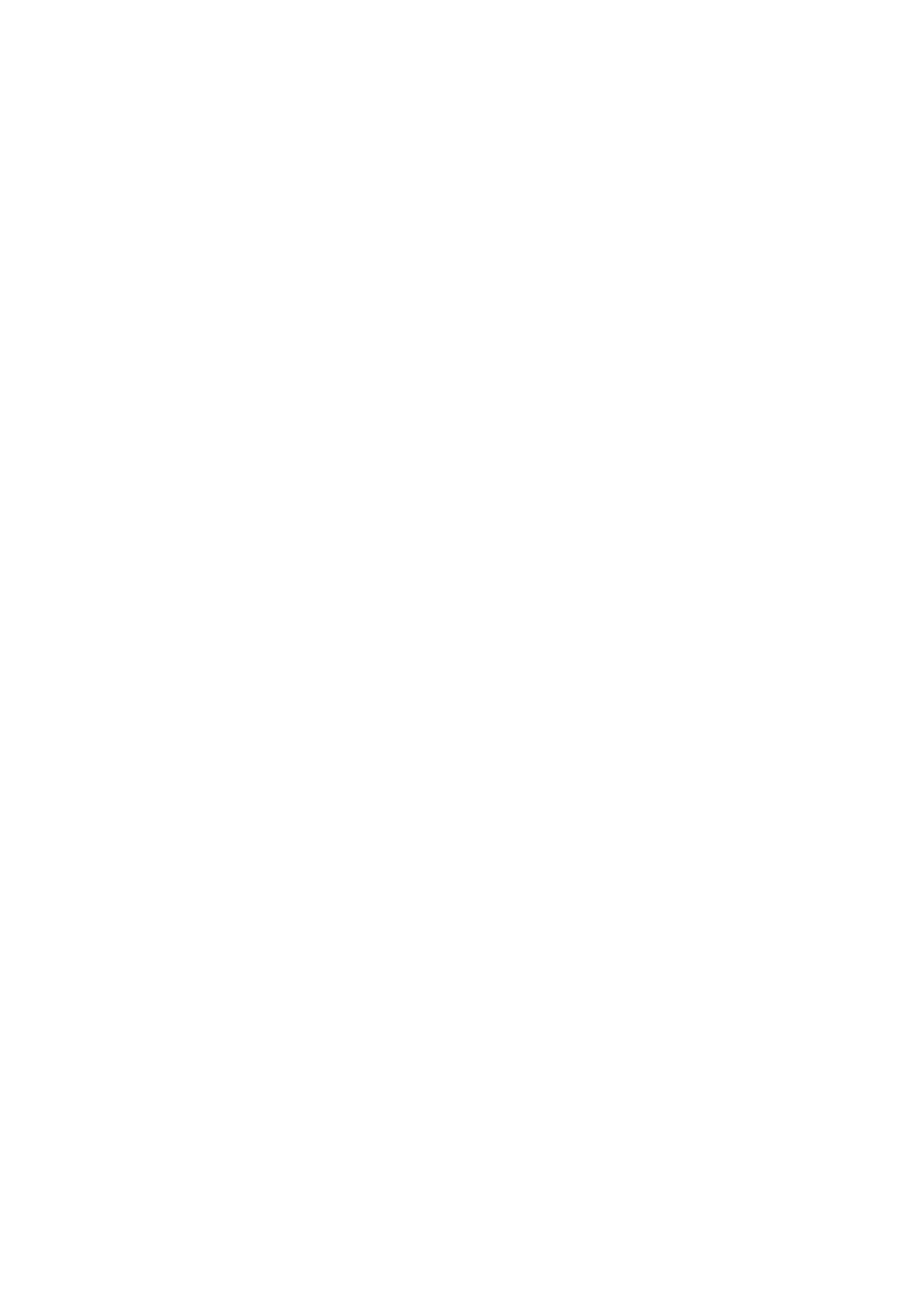
Выбор без выбора
Папа работал на кафедре кинофотомастерства в институте культуры со дня её основания в 1974 году. Я закончила школу в 1982-м и, конечно же, как гуманитарий, мечтала поступить в университет, быть учительницей русского языка и литературы.
Папа был категорически против.
— Универ? Да там бабский коллектив, скучно. Давай-ка, мать, в культуру.
— Я фотографировать ненавижу!
— Ничего, потихонечку начнём.
Папа был категорически против.
— Универ? Да там бабский коллектив, скучно. Давай-ка, мать, в культуру.
— Я фотографировать ненавижу!
— Ничего, потихонечку начнём.
«Зенит» и композиция
Папа практически всучил мне в руки «Зенит» и выпнул на улицу для наработки визуального опыта. В основном я снимала дома и деревья, страшно стеснялась снимать людей. Этот комплекс и сейчас сидит во мне. Несомненно, самая интересная и в то же время сложная для съёмки фигура в пространстве кадра — это человек, с его эмоциями, настроением. Профессиональный фотограф умеет растворяться в толпе — на него не обращают внимания. У меня же все непременно смотрят в кадр. Я так и не научилась за много лет быть невидимой.
Папа меня учил так:
— Ты не знаешь, что такое композиция!
— А что такое композиция?
— Когда все части снимка гармоничны между собой.
— А что такое гармоничные части?
— Композиции нельзя научить, это можно воспитать в себе, поскольку это чувство. И оно к тебе придёт, если будешь много снимать.
Спустя десятилетия чувство композиции и света стало мне знакомо. Ну, мне так кажется.
Итак, я поступила в институт культуры на кафедру кинофотомастерства и стала потихонечку входить в ум, принимать этот мир, оттаивать, не злиться.
— Ты не знаешь, что такое композиция!
— А что такое композиция?
— Когда все части снимка гармоничны между собой.
— А что такое гармоничные части?
— Композиции нельзя научить, это можно воспитать в себе, поскольку это чувство. И оно к тебе придёт, если будешь много снимать.
Спустя десятилетия чувство композиции и света стало мне знакомо. Ну, мне так кажется.
Итак, я поступила в институт культуры на кафедру кинофотомастерства и стала потихонечку входить в ум, принимать этот мир, оттаивать, не злиться.
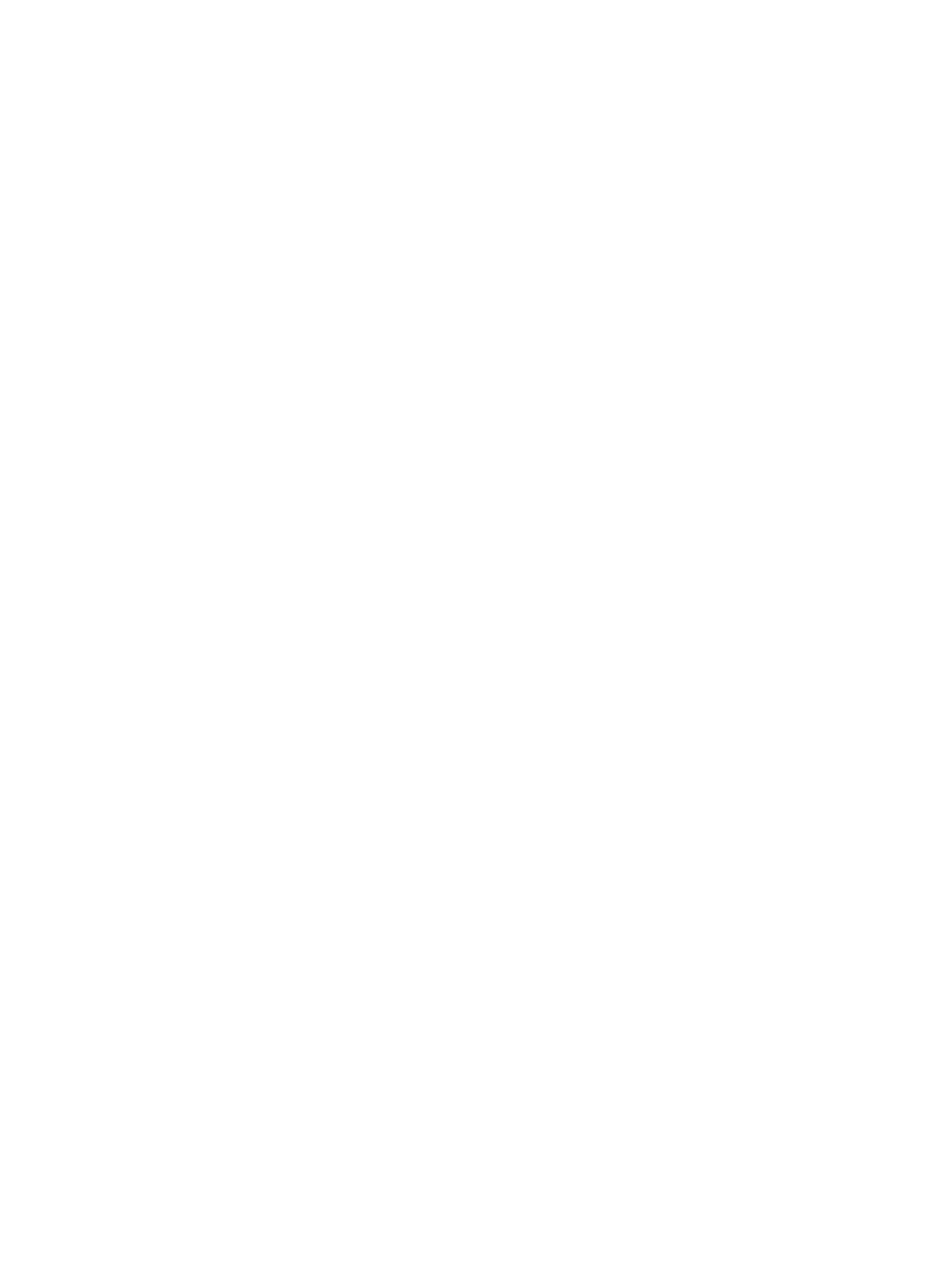
Стройотряд и настоящая дружба
Весь первый курс я осваивалась на нашей замечательной и доброй кафедре, а на втором курсе случилось одно важное событие. Я решила пойти в стройотряд и поехала строить элеватор в Юргу. Теперь, когда я мимо Юрги проезжаю, всем говорю: «Это я строила этот элеватор!»
Поселили нас в подвал, где на железных кроватях валялись матрасы — постельного белья не было, душа тоже, один кран с ледяной водой на 30 человек. Зато девчонки там были чумовые — с театрального. Каждый вечер они пели, играли на гитарах, устраивали весёлые игры, а по субботам мы ходили в баню, гуляли по Юрге, вечно голодные, собирали какие-то копейки и покупали в кулинарии вкусные пряники. Условия проживания были просто тюремные, но сколько было тепла, беспричинной радости, душевности. Я оттаяла окончательно.
Поселили нас в подвал, где на железных кроватях валялись матрасы — постельного белья не было, душа тоже, один кран с ледяной водой на 30 человек. Зато девчонки там были чумовые — с театрального. Каждый вечер они пели, играли на гитарах, устраивали весёлые игры, а по субботам мы ходили в баню, гуляли по Юрге, вечно голодные, собирали какие-то копейки и покупали в кулинарии вкусные пряники. Условия проживания были просто тюремные, но сколько было тепла, беспричинной радости, душевности. Я оттаяла окончательно.
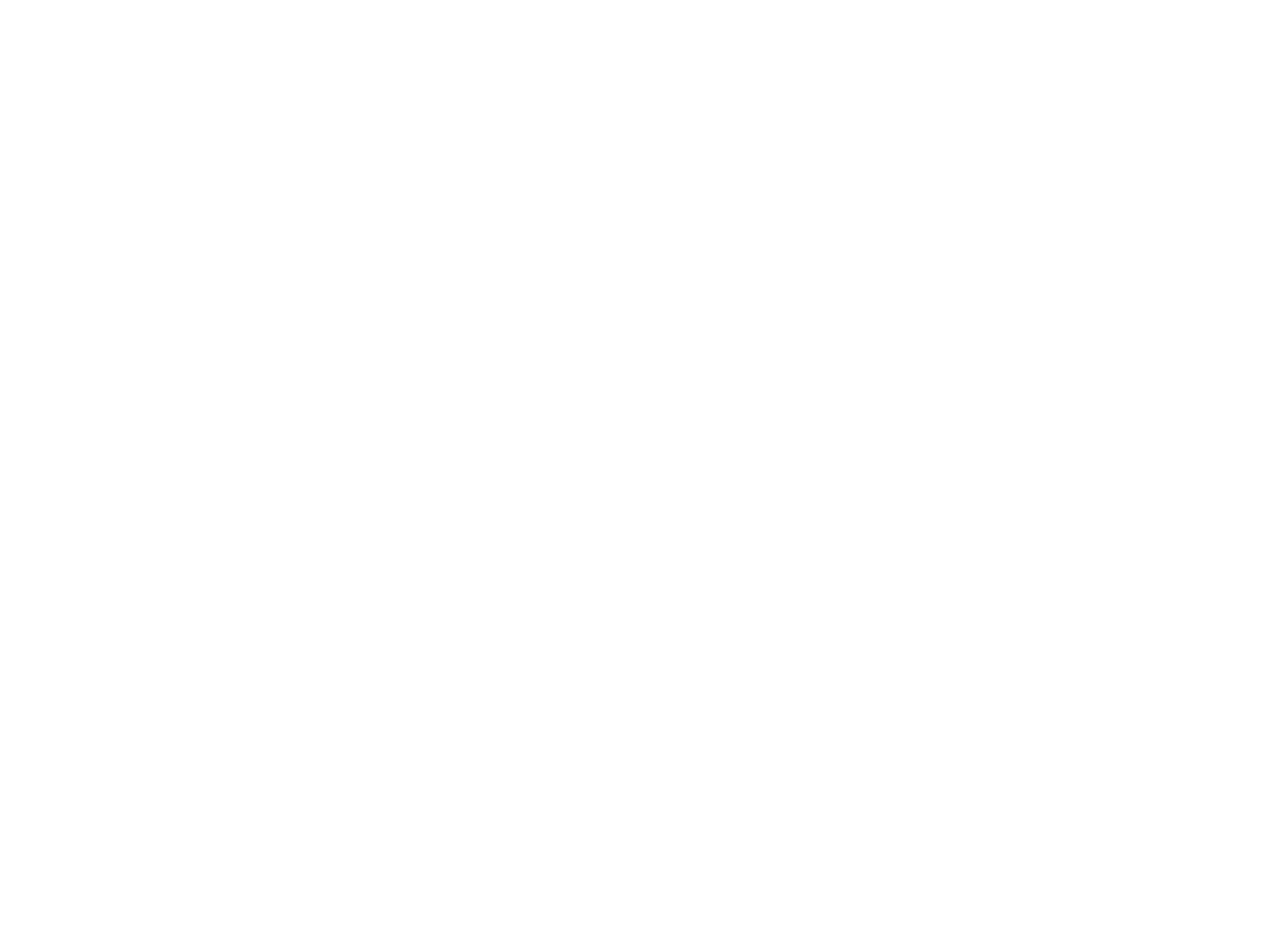
В первый день, когда я пришла на стройку, не могла понять, что надо делать. Вкалывать не хотелось. Я слонялась, пинала балду до вечера и дико от этого устала. На следующий день выбрала самый сложный участок. Нам поручили красить конструкции, гигантские воронки на высоте небоскрёба. Дали каски, ведра с краской, пристегнули верёвки для страховки. Мы ложились на узенькую доску и лёжа красили эти штуки. Краска льётся в глаза, внизу бездна. Но как быстро проходило время! Это стало открытием — работа может приносить радость!
Учителя-звёзды
Кафедру кинофотомастерства организовали работники телевидения — практики с хорошим опытом, умные, начитанные, безумно интересные. Каждый — звезда.
Владимир Александрович Цукров, первый заведующий кафедрой, вёл у нас кинопублицистику. С Тамарой Яковлевной Масловой я познакомилась позже, когда сама стала работать на кафедре. Уникальный педагог, жаль, что её роскошный учебник по сценарному мастерству мало кто читает. Галина Сергеевна Скударнова вела у нас культуру речи. Виктор Николаевич Бабковский, нервный, талантливый, требовательный читал кинодраматургию. Александр Илларионович Дмитриев, наверное, самый любимый всеми студентами преподаватель, ходячая энциклопедия, ВГИКовец, вёл историю кино.
Владимир Александрович Цукров, первый заведующий кафедрой, вёл у нас кинопублицистику. С Тамарой Яковлевной Масловой я познакомилась позже, когда сама стала работать на кафедре. Уникальный педагог, жаль, что её роскошный учебник по сценарному мастерству мало кто читает. Галина Сергеевна Скударнова вела у нас культуру речи. Виктор Николаевич Бабковский, нервный, талантливый, требовательный читал кинодраматургию. Александр Илларионович Дмитриев, наверное, самый любимый всеми студентами преподаватель, ходячая энциклопедия, ВГИКовец, вёл историю кино.
Когда на кафедре появился Дмитриев, папа с восторгом рассказывал: «К нам такой замечательный мужик пришёл! Пижон — белые штаны, сандалии на босую ногу, борода». И первое, что сделал Дмитриев, сразу написал рецензию в журнал «Искусство кино» на папину книжку «Киноленты памяти».
Общеобразовательные предметы вели не менее талантливые преподаватели. Например, я обожала лекции по зарубежной литературе Леонида Ивановича Казакова, историю театра у нас вела сама Галина Александровна Жерновая, советскую литературу Валентина Васильевна Ляхова, историю живописи Виктория Петровна Геращенко. Яркие, самобытные, страшно увлечённые своим делом. Сейчас понимаю, что преподавательская работа чем-то схожа с актёрской. Чтобы держать внимание засыпающего студента, надо обладать яркой выразительной речью, харизмой и, конечно, гореть своим делом.
Общеобразовательные предметы вели не менее талантливые преподаватели. Например, я обожала лекции по зарубежной литературе Леонида Ивановича Казакова, историю театра у нас вела сама Галина Александровна Жерновая, советскую литературу Валентина Васильевна Ляхова, историю живописи Виктория Петровна Геращенко. Яркие, самобытные, страшно увлечённые своим делом. Сейчас понимаю, что преподавательская работа чем-то схожа с актёрской. Чтобы держать внимание засыпающего студента, надо обладать яркой выразительной речью, харизмой и, конечно, гореть своим делом.
Работа и призвание
После окончания института я попала по распределению в Дом пионеров Центрального района. Отработала три года как молодой специалист. У меня был кинофотокружок, 15 пионеров. Мы в основном болтали, ходили в походы, читали, смотрели фильмы, сочиняли сценарии, печатали ужасные фотки, делали дискотеки. Изредка снимали какую-то белиберду типа «Ералаша», участвовали в конкурсах и фестивалях, делили подаренный торт.
Но счастье длилось недолго. Наш кабинет отобрали, сделали живой уголок, а нас переселили в клуб по месту жительства на улице Дзержинского. И как-то всё постепенно сошло на нет. Поначалу мои верные пионеры ездили в центр толпой, потом по пять человек, потом по три, а потом остался один. До сих пор обожаю подростков! Мой самый любимый возраст — это 12-13 лет.
Но счастье длилось недолго. Наш кабинет отобрали, сделали живой уголок, а нас переселили в клуб по месту жительства на улице Дзержинского. И как-то всё постепенно сошло на нет. Поначалу мои верные пионеры ездили в центр толпой, потом по пять человек, потом по три, а потом остался один. До сих пор обожаю подростков! Мой самый любимый возраст — это 12-13 лет.
Возвращение домой
Владимир Николаевич Юдин, второй заведующий кафедрой, как-то встретил меня в парке: «Будешь на кафедре работать, будешь вести все дисциплины, которые я скажу?» «Ну давайте, попробуем!»
Основную дисциплину, которую мне предложил вести Юдин — кинорежиссуру, — веду до сих пор. У меня была хорошая насмотренность — не зря же я четыре года ходила в кино вместо школы! Но совершенный ноль практики — я по-прежнему не особо любила снимать.
Основную дисциплину, которую мне предложил вести Юдин — кинорежиссуру, — веду до сих пор. У меня была хорошая насмотренность — не зря же я четыре года ходила в кино вместо школы! Но совершенный ноль практики — я по-прежнему не особо любила снимать.
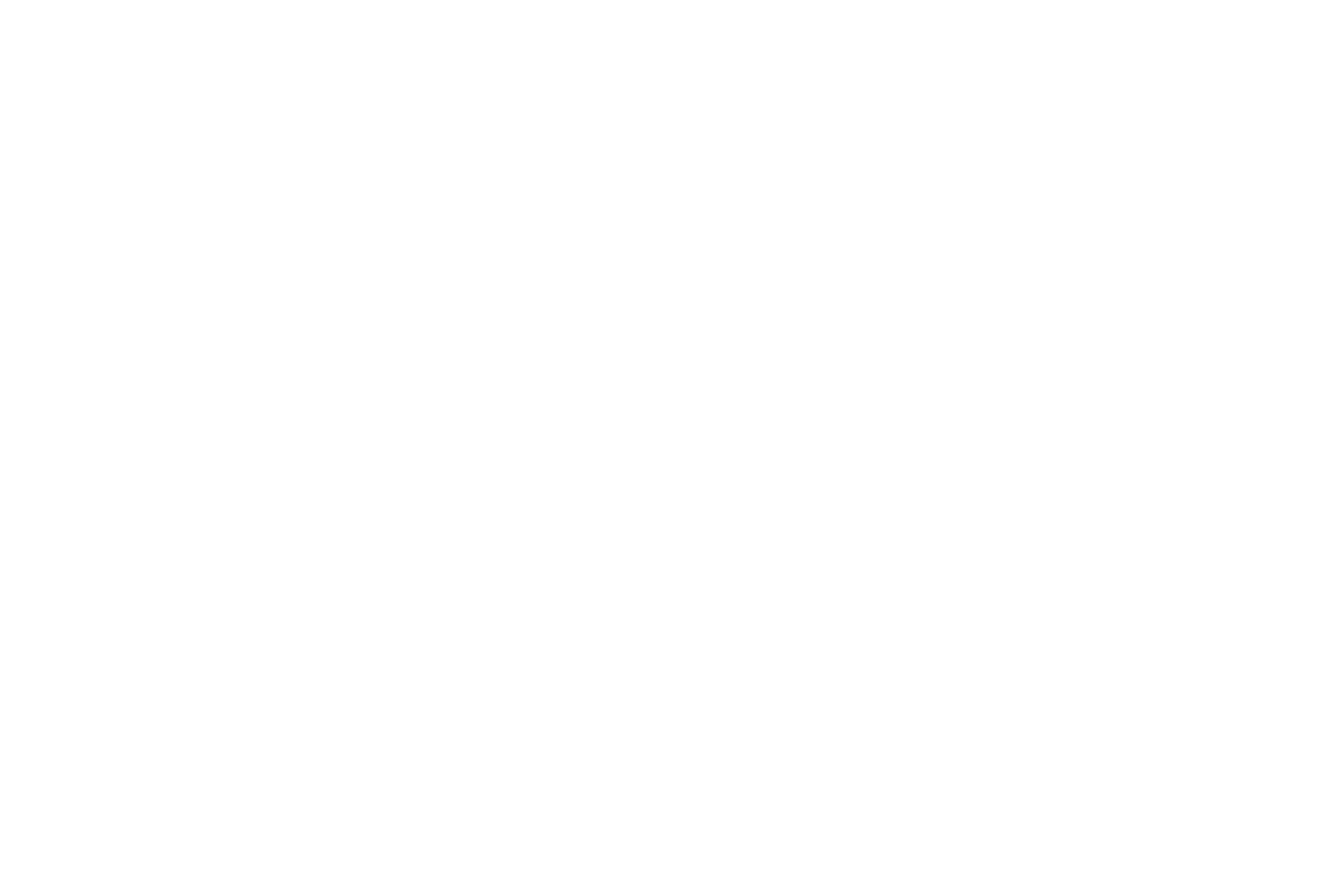
Я была не намного старше, а то и младше своих первых учеников — матёрых мужиков-рабфаковцев. Вызывала у них, видимо, смешанное чувство жалости и умиления.
Почему-то решила, что стыдно заглядывать в конспекты. Мне казалось круто, когда говоришь полтора часа абсолютно без всяких письменных костылей. Первые лекции учила наизусть, но выбилась из сил и сошла с дистанции довольно быстро. Было сложно, но со временем научилась вещать без бумажки. «Великий немой» заговорил.
Почему-то решила, что стыдно заглядывать в конспекты. Мне казалось круто, когда говоришь полтора часа абсолютно без всяких письменных костылей. Первые лекции учила наизусть, но выбилась из сил и сошла с дистанции довольно быстро. Было сложно, но со временем научилась вещать без бумажки. «Великий немой» заговорил.
Как я полюбила снимать
Фотографироваться сама я до сих пор не умею и не умею позировать. Единственный человек, который может меня снять, это Саша Никольский. И все мои лучшие портреты — это Сашины работы.
Мой любимый режиссёр Сергей Эйзенштейн говорил: «Если хочешь чему-то научиться, начни это преподавать». И вот я стала преподавать все дисциплины на кафедре, которые есть. Как и завещал великий Юдин. Но по-прежнему ничего не делала руками. В какой-то момент в моей голове произошёл щелчок, и я вдруг поняла, что это плохо. Одна сухая теория в нашем деле страшно выматывает.
Мой любимый режиссёр Сергей Эйзенштейн говорил: «Если хочешь чему-то научиться, начни это преподавать». И вот я стала преподавать все дисциплины на кафедре, которые есть. Как и завещал великий Юдин. Но по-прежнему ничего не делала руками. В какой-то момент в моей голове произошёл щелчок, и я вдруг поняла, что это плохо. Одна сухая теория в нашем деле страшно выматывает.
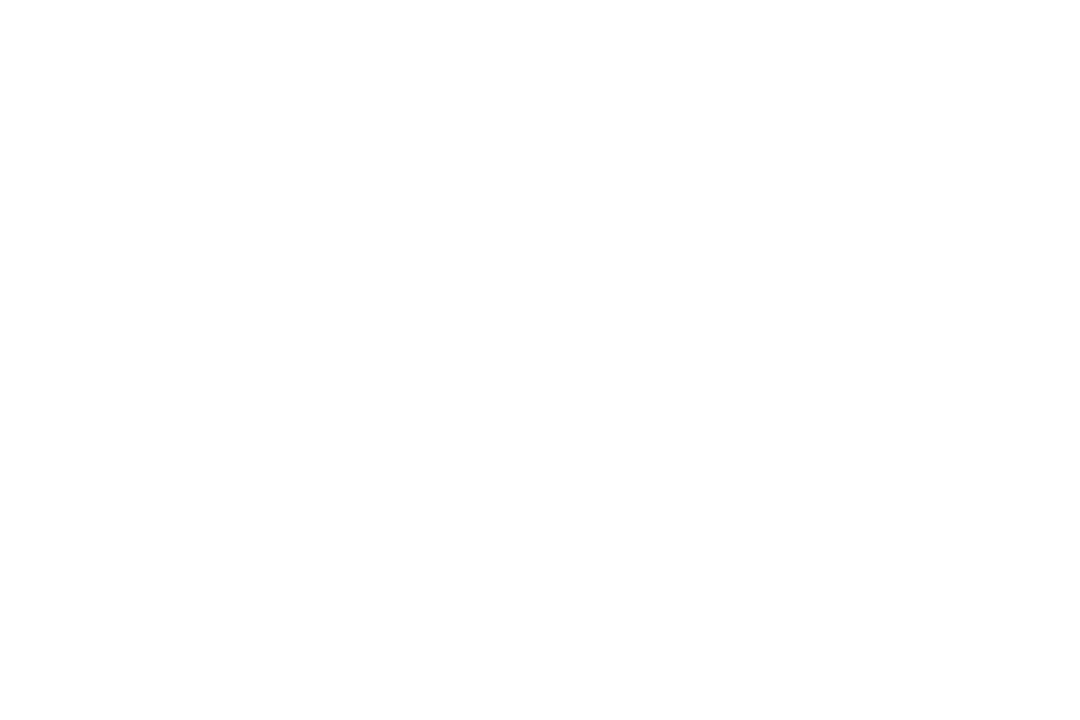
Сначала появилось кино. В двухтысячные образовалась у нас такая классная тусовка в Кемерове, которую создал наш выпускник и оператор Андрей Пашков. В своей квартире на проспекте Ленина он, сам того не ведая, создал некий приют для маргиналов от культуры и искусства: художников, композиторов, фотографов и киношников. В пашковской квартире мы тусовались лет пять, и можно сказать, что это была одна из моих самых счастливых жизней.
Пашков меня многому научил в операторском деле. Как-то сидели-сидели и надумали сделать новогодний проект. Я вызвалась быть съёмщиком. Пашков говорит: «Лена, у тебя есть сценарий?» Я говорю: «Зачем сценарий? У нас экспромт. Ты, Михаил Волков, нашёл уголь. Вот и весь сценарий».
Сначала я снимала так: общий план, средний, крупный план, детали. Потом Пашков говорит: «Лена, может, хватит так тупо снимать? Давай брось камеру на снег, сделай ракурсы». Я поняла тогда, что такое ракурс, и сама себя спрашивала: «А что, можно двигаться с камерой? Вот это да! Это вообще что-то новое!»
Каждый раз испытываю дикий восторг от того, что освоила ещё одно выразительное средство, про которое так много рассказывала студентам, но сама никогда не воплощала. Так мы сделали четыре безбашенных новогодних проекта, которые я до сих пор показываю студентам для того, чтобы они не боялись начинать снимать своё кино. И сама теперь довольно уверенно чувствую себя с камерой.
Пашков меня многому научил в операторском деле. Как-то сидели-сидели и надумали сделать новогодний проект. Я вызвалась быть съёмщиком. Пашков говорит: «Лена, у тебя есть сценарий?» Я говорю: «Зачем сценарий? У нас экспромт. Ты, Михаил Волков, нашёл уголь. Вот и весь сценарий».
Сначала я снимала так: общий план, средний, крупный план, детали. Потом Пашков говорит: «Лена, может, хватит так тупо снимать? Давай брось камеру на снег, сделай ракурсы». Я поняла тогда, что такое ракурс, и сама себя спрашивала: «А что, можно двигаться с камерой? Вот это да! Это вообще что-то новое!»
Каждый раз испытываю дикий восторг от того, что освоила ещё одно выразительное средство, про которое так много рассказывала студентам, но сама никогда не воплощала. Так мы сделали четыре безбашенных новогодних проекта, которые я до сих пор показываю студентам для того, чтобы они не боялись начинать снимать своё кино. И сама теперь довольно уверенно чувствую себя с камерой.
В эти же годы благодаря Александру Степановичу Баженову научилась монтировать (он и козу научит), и дело пошло.
Потом, когда появился интернет и социальные сети, я испытала приятное чувство от того, что у тебя есть свой зритель. Выложила пост с цветком на окне и получила 4 лайка!
Потом, когда появился интернет и социальные сети, я испытала приятное чувство от того, что у тебя есть свой зритель. Выложила пост с цветком на окне и получила 4 лайка!
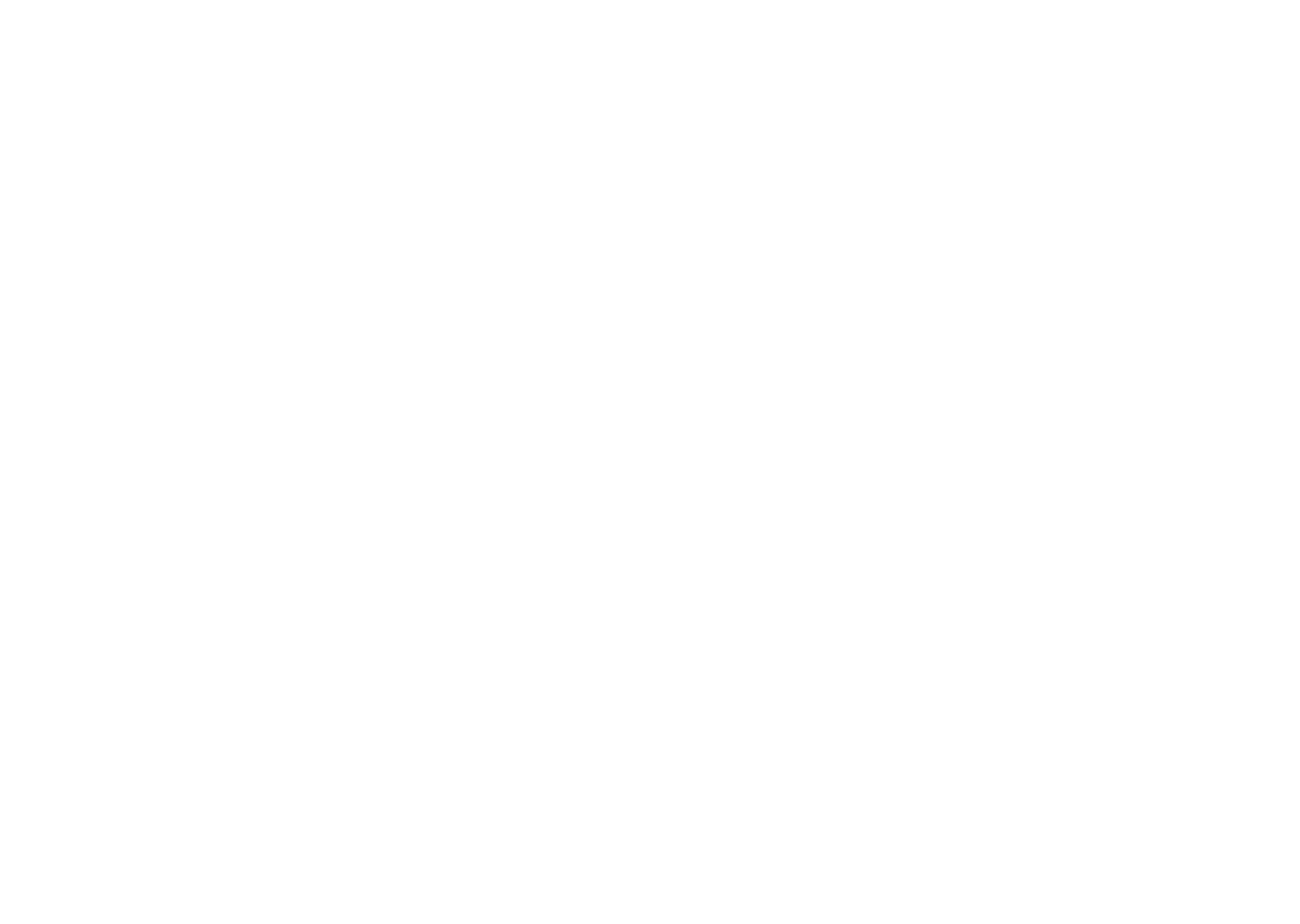
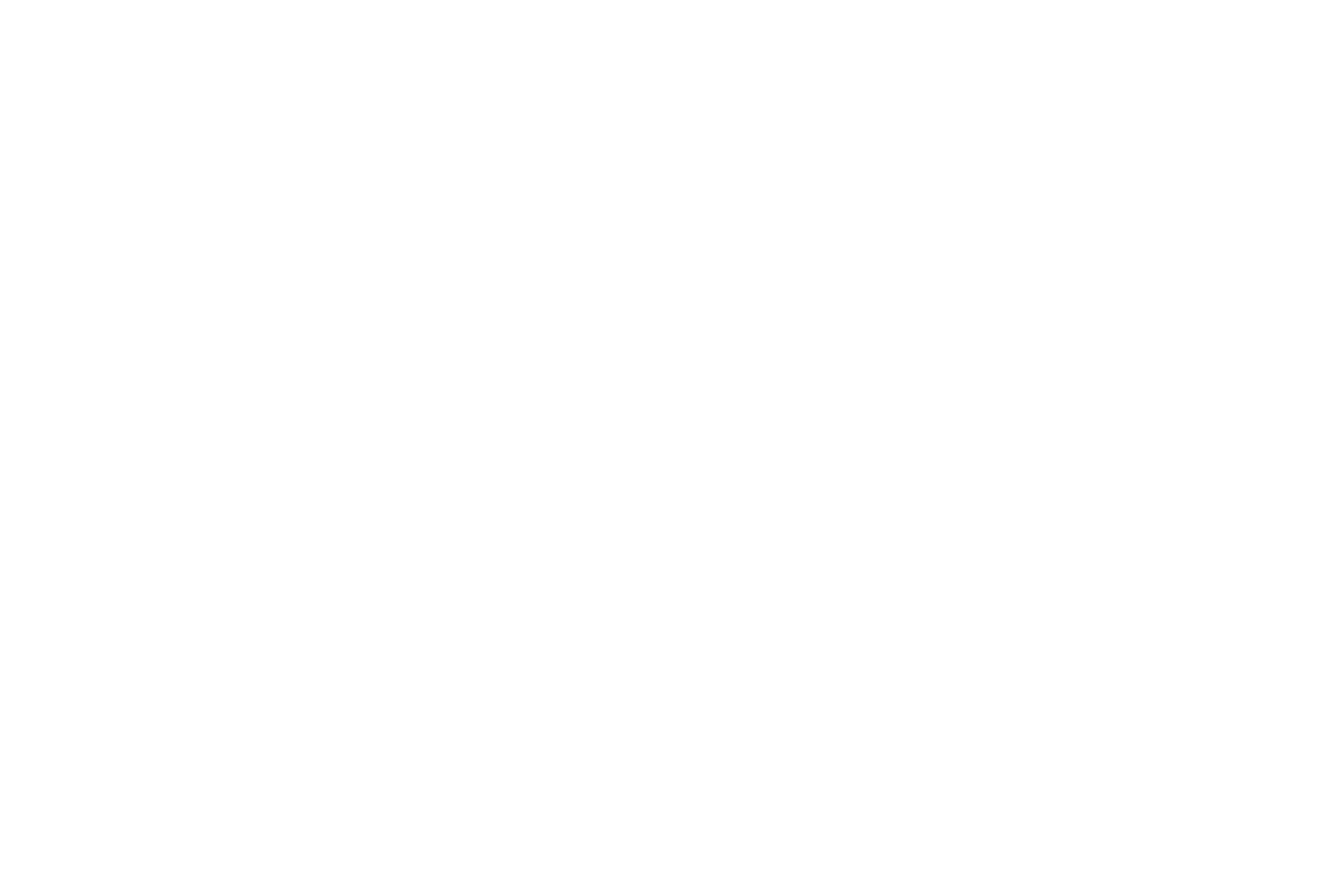
Я не считаю себя фотографом, в сетях я просто делюсь тем, что видела. Для меня это что-то вроде дневника впечатлений, чтобы не забыть, где я была. Как правило, это несколько картинок и минимум текста. Точно знаю, что большие тексты читать не любят. И главное всё же — визуал. Чтобы все сказали: «Как хорошо у нас в Кемерове!» Или: «О! Она уже в Стамбуле!»
Через какое-то время я обнаружила, что у меня есть своя паства, которой интересно, что я делаю и где брожу. Все мои знакомые — добрые и хорошие люди! Где бы я ни оказалась, ищу в простом и обыкновенном красивое и человечное. Мне нравится составлять из фотографий простые истории.
Через какое-то время я обнаружила, что у меня есть своя паства, которой интересно, что я делаю и где брожу. Все мои знакомые — добрые и хорошие люди! Где бы я ни оказалась, ищу в простом и обыкновенном красивое и человечное. Мне нравится составлять из фотографий простые истории.
Потому что в них есть жизнь
Каждый заведующий нашей кафедры находился в этой должности 12 лет — В.А. Цукров, В.Н. Юдин, А.А. Гук. Я думала, когда наступит моё «двенадцатилетие», что-то случится — например, я уеду. Но ничего не случилось, и я оказалась первой, кто нарушил традицию.
Моё место работы — любимая кафедра фотовидеотворчества — с виду немножко деревенская, похожа на мою любимую деревню Балахонку. У нас, кстати, единственная кафедра в вузе, где есть кухня и круглый стол — мы всегда рады гостям. В ней остались следы прошлого: даже часть кресел в просмотровом зале я специально не выбросила — на них сидели будущие операторы, режиссёры, журналисты.
Кафедра знала разные времена — и лихие девяностые, и депрессивные ковидные, но сейчас у нас очередной ренессанс: кипит бурная жизнь, пришло новое племя первокурсников, молодое, незнакомое. Я студентам уже гожусь в бабушки, но как-то по-прежнему получается дружить, работать вместе, снимать и монтировать фильмы. А ещё мы на кафедре любим обниматься!
Как-то так случилось, что я всю жизнь прожила в одном месте, в Кемерове на улице Гагарина, работала на одной работе. И вот уже больше сорока лет я с радостью продолжаю подниматься вверх по лестницам пятого этажа второго корпуса КемГИК. А это ведь и есть секрет счастья — утром с радостью идти на работу, вечером с удовольствием возвращаться домой.
Моё место работы — любимая кафедра фотовидеотворчества — с виду немножко деревенская, похожа на мою любимую деревню Балахонку. У нас, кстати, единственная кафедра в вузе, где есть кухня и круглый стол — мы всегда рады гостям. В ней остались следы прошлого: даже часть кресел в просмотровом зале я специально не выбросила — на них сидели будущие операторы, режиссёры, журналисты.
Кафедра знала разные времена — и лихие девяностые, и депрессивные ковидные, но сейчас у нас очередной ренессанс: кипит бурная жизнь, пришло новое племя первокурсников, молодое, незнакомое. Я студентам уже гожусь в бабушки, но как-то по-прежнему получается дружить, работать вместе, снимать и монтировать фильмы. А ещё мы на кафедре любим обниматься!
Как-то так случилось, что я всю жизнь прожила в одном месте, в Кемерове на улице Гагарина, работала на одной работе. И вот уже больше сорока лет я с радостью продолжаю подниматься вверх по лестницам пятого этажа второго корпуса КемГИК. А это ведь и есть секрет счастья — утром с радостью идти на работу, вечером с удовольствием возвращаться домой.
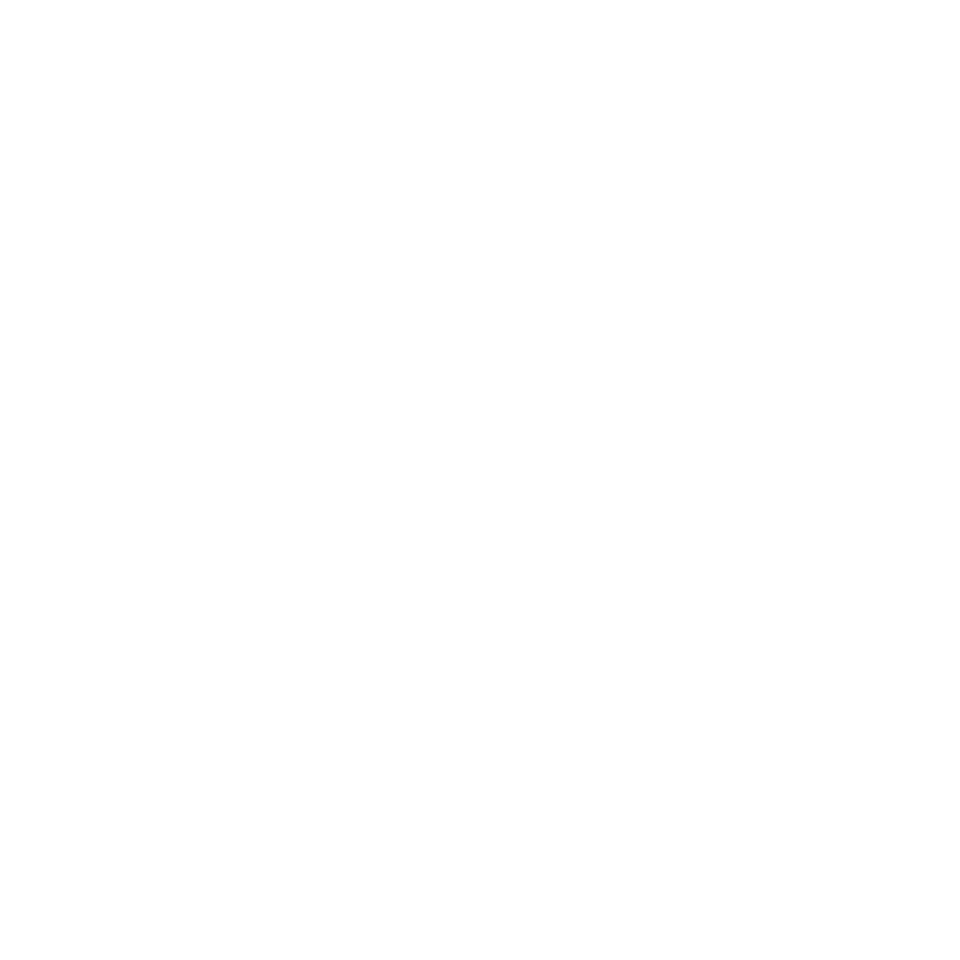
Автор идеи проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Светлакова/Елена Митрофанова
Фотографии: Александр Никольский/из личного архива Елены Светлаковой
Текст: Елена Светлакова/Елена Митрофанова
Фотографии: Александр Никольский/из личного архива Елены Светлаковой