«Музыка — это любовь к человеку»
Инна Вячеславовна Шорохова — профессор, декан факультета музыкального искусства, художественный руководитель Хорового театра «Академия» Кемеровского государственного института культуры, член Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, член Союза театральных деятелей РФ, член Российской общенациональной секции ISME (часть Международного музыкального совета ЮНЕСКО), художественный руководитель Международного фестиваля музыкального творчества «Сибириада», художественный руководитель Международного певческого праздника «Прекрасное Далеко: дайджест онлайн».
Награждена Благодарностью министра культуры Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу, медалью «За достойное воспитание детей», медалью «За служение Кузбассу»; медалью «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени.
Мы говорили с Инной Вячеславовной о любви, красоте, музыке и творчестве, о людях, об уважении к личности, о таланте и призвании, о возможностях и о том, что иногда нас ведут по жизни за руку и как важно довериться своим ангелам-хранителям.
Награждена Благодарностью министра культуры Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу, медалью «За достойное воспитание детей», медалью «За служение Кузбассу»; медалью «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени.
Мы говорили с Инной Вячеславовной о любви, красоте, музыке и творчестве, о людях, об уважении к личности, о таланте и призвании, о возможностях и о том, что иногда нас ведут по жизни за руку и как важно довериться своим ангелам-хранителям.
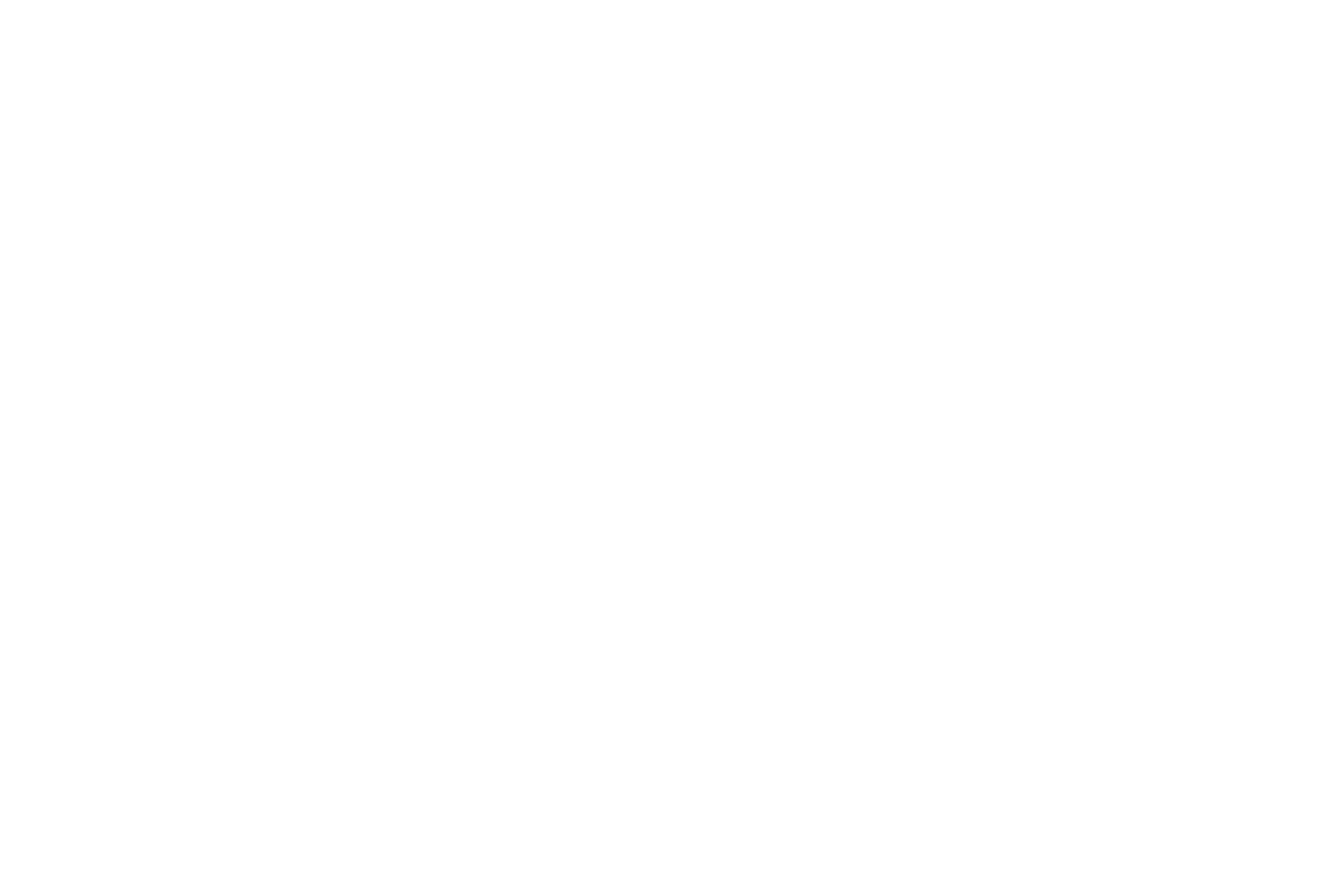
— Когда маленькая Инна решила, кем она будет в будущем?
— Такой интересный вопрос! Я, если честно, до сих пор не чувствую себя взрослой. Вы знаете, мне очень повезло с родителями. Я росла в семье с безусловным пониманием и принятием меня. У моей мамы абсолютный дар любви. То, что у меня есть музыкальное образование — мамина заслуга. Именно она заметила моё особое отношение к музыке.
Существует такая семейная легенда: мне было полтора года, и накормить меня тогда было проблемой. По телевизору показывали оперу «Царская невеста». Я просто села на пол перед телевизором, и пока шла опера — она достаточно длинная — не сошла с места. За это время родители сделали со мной всё, что хотели: накормили, переодели.
Мама была заведующей детского сада и думала: какая хорошая профессия для девочки — музыкальный руководитель в детском саду! Сейчас она говорит: «Если бы я знала, как ты это разовьёшь!»
В 1972 году я пошла в музыкальную школу. Времена были непростые для семьи, тем не менее родители нашли возможность купить фортепиано.
Папа рассказывал, что в музыкальную школу принимали как в разведку. Родители страшно гордились (они у меня оба руководящие работники), что и в музыкальное училище, и в консерваторию я поступала сама, без всяких протекций. Моё вхождение в музыку в семье всегда имело ауру гордости и счастья.
Честно скажу, музыкальную школу я преодолела сложно. Я не очень любила занятия по фортепиано. Но мне всегда везло с учителями. Любовь Васильевна Коваленко — она и сейчас работает — педагог по хоровому классу, которая сразу заметила мою особую весёлость и любовь к исполнению и к музыке, выделила меня среди остальных. Дополнительно со мной занималась.
— И что было дальше?
— Потом она ушла в декрет. А я перестала ходить в музыкальную школу. Мама уехала на курорт, папа мне безоговорочно верил. Я брала портфельчик и шла к подружке.
— Какая знакомая история!
— Потом моим родителя пришло письмо: ваша дочь уже полтора месяца не посещает занятия. Папа спросил: «Не хочешь?». Я сказала: «Не хочу». И семья на полном доверии сказала: «Ну, не хочешь — так и не надо».
И тут Любовь Васильевна вышла из декрета, а меня нет. Она пришла к моим родителям: «Что вы делаете, у вас такой талантливый ребёнок!». Так мы впервые узнали, что в семье растёт талантливый ребёнок (смеётся).
Потом я быстро завершила обучение экстерном — чуть ли не два года за год. Любовь Васильевна отвела меня в музыкальное училище, сразу на дирижёрско-хоровое отделение. Там мне снова встретились очень талантливые педагоги, которые подготовили меня настолько хорошо, что я без проблем сразу поступила в консерваторию.
— Такой интересный вопрос! Я, если честно, до сих пор не чувствую себя взрослой. Вы знаете, мне очень повезло с родителями. Я росла в семье с безусловным пониманием и принятием меня. У моей мамы абсолютный дар любви. То, что у меня есть музыкальное образование — мамина заслуга. Именно она заметила моё особое отношение к музыке.
Существует такая семейная легенда: мне было полтора года, и накормить меня тогда было проблемой. По телевизору показывали оперу «Царская невеста». Я просто села на пол перед телевизором, и пока шла опера — она достаточно длинная — не сошла с места. За это время родители сделали со мной всё, что хотели: накормили, переодели.
Мама была заведующей детского сада и думала: какая хорошая профессия для девочки — музыкальный руководитель в детском саду! Сейчас она говорит: «Если бы я знала, как ты это разовьёшь!»
В 1972 году я пошла в музыкальную школу. Времена были непростые для семьи, тем не менее родители нашли возможность купить фортепиано.
Папа рассказывал, что в музыкальную школу принимали как в разведку. Родители страшно гордились (они у меня оба руководящие работники), что и в музыкальное училище, и в консерваторию я поступала сама, без всяких протекций. Моё вхождение в музыку в семье всегда имело ауру гордости и счастья.
Честно скажу, музыкальную школу я преодолела сложно. Я не очень любила занятия по фортепиано. Но мне всегда везло с учителями. Любовь Васильевна Коваленко — она и сейчас работает — педагог по хоровому классу, которая сразу заметила мою особую весёлость и любовь к исполнению и к музыке, выделила меня среди остальных. Дополнительно со мной занималась.
— И что было дальше?
— Потом она ушла в декрет. А я перестала ходить в музыкальную школу. Мама уехала на курорт, папа мне безоговорочно верил. Я брала портфельчик и шла к подружке.
— Какая знакомая история!
— Потом моим родителя пришло письмо: ваша дочь уже полтора месяца не посещает занятия. Папа спросил: «Не хочешь?». Я сказала: «Не хочу». И семья на полном доверии сказала: «Ну, не хочешь — так и не надо».
И тут Любовь Васильевна вышла из декрета, а меня нет. Она пришла к моим родителям: «Что вы делаете, у вас такой талантливый ребёнок!». Так мы впервые узнали, что в семье растёт талантливый ребёнок (смеётся).
Потом я быстро завершила обучение экстерном — чуть ли не два года за год. Любовь Васильевна отвела меня в музыкальное училище, сразу на дирижёрско-хоровое отделение. Там мне снова встретились очень талантливые педагоги, которые подготовили меня настолько хорошо, что я без проблем сразу поступила в консерваторию.
— Расскажите о консерватории…
— Когда мы учились на третьем курсе училища, меня пригласили работать в хор Новосибирской филармонии. Надо было переезжать в Новосибирск. Мне так понравилась эта идея! Но родители мудро со мной поговорили, и я решила, что сначала закончу училище, а потом поступлю в консерваторию. Может быть, и с хором сложится.
Годы обучения в консерватории, наверное, - самые лучшие годы! Это было время ещё до Перестройки и самое её начало. Наверное, расцвет консерватории: все наши педагоги молодые, сильные, с амбициями, с желанием передать нам, во что бы то ни стало, традиции Ленинградской и Московской школ.
Новосибирск тогда был каким-то серым, жутко холодным, голодным. Мы продукты возили из Кемерова, из Барнаула. Но общение! Потрясающие люди! Конкурсы на поступление тогда были бешеные, отбирали лучших. Все были очень талантливые. Может быть, не скромно это говорить, но это так. И «хоровики» — это же всегда командность. Мы были не только сокурсниками, но и настоящей командой!
Самое главное, что заложили в нас в консерватории — невероятная потребность к саморазвитию, к самоизменению, к постоянным поискам себя и своих методов.
Но консерваторию я бросала. Благодаря Борису Самуиловичу Певзнеру, выдающемуся музыканту, меня взяли в камерный хор Новосибирской филармонии. Он ездил по сибирским училищам и отбирал молодых, талантливых девушек и юношей в хор. Когда он увидел меня в консерватории, сказал: «О, ты молодец, приходи!»
— Когда мы учились на третьем курсе училища, меня пригласили работать в хор Новосибирской филармонии. Надо было переезжать в Новосибирск. Мне так понравилась эта идея! Но родители мудро со мной поговорили, и я решила, что сначала закончу училище, а потом поступлю в консерваторию. Может быть, и с хором сложится.
Годы обучения в консерватории, наверное, - самые лучшие годы! Это было время ещё до Перестройки и самое её начало. Наверное, расцвет консерватории: все наши педагоги молодые, сильные, с амбициями, с желанием передать нам, во что бы то ни стало, традиции Ленинградской и Московской школ.
Новосибирск тогда был каким-то серым, жутко холодным, голодным. Мы продукты возили из Кемерова, из Барнаула. Но общение! Потрясающие люди! Конкурсы на поступление тогда были бешеные, отбирали лучших. Все были очень талантливые. Может быть, не скромно это говорить, но это так. И «хоровики» — это же всегда командность. Мы были не только сокурсниками, но и настоящей командой!
Самое главное, что заложили в нас в консерватории — невероятная потребность к саморазвитию, к самоизменению, к постоянным поискам себя и своих методов.
Но консерваторию я бросала. Благодаря Борису Самуиловичу Певзнеру, выдающемуся музыканту, меня взяли в камерный хор Новосибирской филармонии. Он ездил по сибирским училищам и отбирал молодых, талантливых девушек и юношей в хор. Когда он увидел меня в консерватории, сказал: «О, ты молодец, приходи!»
Меня взяли в дополнительный состав на гастроли. И я поняла, как это здорово, как интересно — города, поездки!
После месяца гастролей, вернувшись на занятия, я поняла, что по некоторым предметам отстала настолько, что уже ничего не понимаю. Конечно, сообщила маме. И спросила, можно ли поработать в филармонии? Конечно, мне было можно (улыбается). И я перестала учиться и пошла работать. Но потом Борис Самуилович Певзнер в конце года сказал: «Давай-ка, милая, восстанавливаемся, надо учиться, надо получать высшее образование».
Я безмерно благодарна моим учителям. Это были настолько профессиональные люди — мне казалось, что все педагоги должны быть столь же профессиональны в работе с хором!
А я после обучения в консерватории вернулась в Кемерово другим человеком. Изменилось мировоззрение, сформировались эталоны.
После месяца гастролей, вернувшись на занятия, я поняла, что по некоторым предметам отстала настолько, что уже ничего не понимаю. Конечно, сообщила маме. И спросила, можно ли поработать в филармонии? Конечно, мне было можно (улыбается). И я перестала учиться и пошла работать. Но потом Борис Самуилович Певзнер в конце года сказал: «Давай-ка, милая, восстанавливаемся, надо учиться, надо получать высшее образование».
Я безмерно благодарна моим учителям. Это были настолько профессиональные люди — мне казалось, что все педагоги должны быть столь же профессиональны в работе с хором!
А я после обучения в консерватории вернулась в Кемерово другим человеком. Изменилось мировоззрение, сформировались эталоны.
Да, и самое главное — с окончанием консерватории чудесные ситуации в моей жизни не закончились. Вот уже 27 лет я работаю в КемГИК, и понимаю, что больше вузовский человек — и по сложности программ, которые мы здесь выдаём, и по набору специальностей. Это великое счастье, что благодаря институту, я знаю много больше, чем знают мои коллеги, чистые музыканты.
Когда я попала в этот коллектив, где есть режиссёры, художники, хореографы, наши потрясающие библиотекари, которые совсем не соответствуют представлению о «серых мышках», я очень многому научилась. Жизнь стала складываться так, что я реализовалась гораздо больше, чем все мои однокурсники: и те, кто остались в Новосибирске, и те, кто уезжал в другие города. Наверное, там больше возможностей, но не для нас. На примере моей судьбы можно подтвердить правомерность пословицы: где родился, там и пригодился.
— Я очень люблю такие истории, они вдохновляют. Чистота пути — это так красиво. Инна Вячеславовна, как появился хоровой театр «Академия»?
— Есть такое четверостишие, я помню две фразы: у всех проблем — одно начало, сидела женщина, скучала.
Когда вернулась в Кемерово, я думала: что же я здесь буду делать? И стала вспоминать: когда же я была больше всего счастлива? И поняла — это работа в филармонии с Борисом Самуиловичем в камерном хоре: поездки, гастроли, профессиональное общение. Даже не сам процесс, а именно огромное количество музыкальной информации, впечатлений. Я подумала: мне нужен хор, который будет гастролировать!
На следующий год по инициативе ректората был создан учебно-творческий коллектив, деятельность которого стала основой всех моих учебно-методических и научных работ. Так появился хоровой театр «Академия».
Когда я попала в этот коллектив, где есть режиссёры, художники, хореографы, наши потрясающие библиотекари, которые совсем не соответствуют представлению о «серых мышках», я очень многому научилась. Жизнь стала складываться так, что я реализовалась гораздо больше, чем все мои однокурсники: и те, кто остались в Новосибирске, и те, кто уезжал в другие города. Наверное, там больше возможностей, но не для нас. На примере моей судьбы можно подтвердить правомерность пословицы: где родился, там и пригодился.
— Я очень люблю такие истории, они вдохновляют. Чистота пути — это так красиво. Инна Вячеславовна, как появился хоровой театр «Академия»?
— Есть такое четверостишие, я помню две фразы: у всех проблем — одно начало, сидела женщина, скучала.
Когда вернулась в Кемерово, я думала: что же я здесь буду делать? И стала вспоминать: когда же я была больше всего счастлива? И поняла — это работа в филармонии с Борисом Самуиловичем в камерном хоре: поездки, гастроли, профессиональное общение. Даже не сам процесс, а именно огромное количество музыкальной информации, впечатлений. Я подумала: мне нужен хор, который будет гастролировать!
На следующий год по инициативе ректората был создан учебно-творческий коллектив, деятельность которого стала основой всех моих учебно-методических и научных работ. Так появился хоровой театр «Академия».
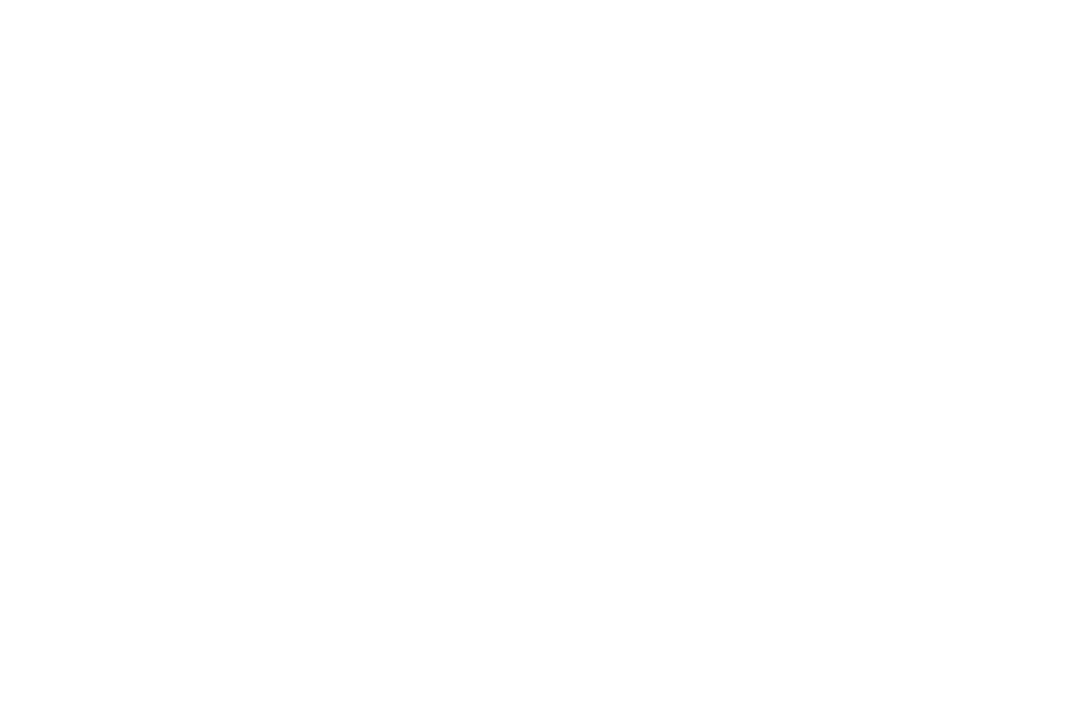
И я уже тогда точно знала, как будет развиваться этот коллектив. Моё тяготение к театрализации и опыт работы с Борисом Самуиловичем, который занимался хоровым театром, легли в основу принципов работы «Академии». И в итоге оказалось, что здесь, в Сибири, продолжатель Певзнера — я. Он звонил мне перед смертью, мы общались, и мне было очень приятно, что он это понял.
Хоровой театр «Академия» - обладатель Высшей награды Всемирной ассоциации международных фестивалей и конкурсов, 10 премий Гран-При, лауреат международных конкурсов. Коллектив концертировал в России Чехии, Польше, Германии, Македонии, Сербии, Китае.
На базе коллектива создана Творческая школа Хорового театра «Академия» - лаборатория современного хорового исполнительства. Занятия школы - мастер-классы, практикумы проходили в Сербии, Китае, Польше, Латвии, Армении, России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Барнаул, Новокузнецк, Прокопьевск и другие).
На базе коллектива создана Творческая школа Хорового театра «Академия» - лаборатория современного хорового исполнительства. Занятия школы - мастер-классы, практикумы проходили в Сербии, Китае, Польше, Латвии, Армении, России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Барнаул, Новокузнецк, Прокопьевск и другие).
— Как хоровой класс прошёл путь до хорового театра?
— Шаг за шагом. Мы много экспериментировали. Опыта никакого. Образцов нет. Потом появился хореограф в коллективе. А как появился? Мы спектакль уже ставили. Выхожу в коридор из аудитории, идёт женщина. По выправке — очень похожа на хореографа. А мне помощь нужна. Я говорю: пожалуйста, помогите. Она зашла, посмотрела, показала два движения. Так появился хореограф.
В другой раз случайно проходил мимо нашего класса Дмитрий Вихрецкий (с 2004 по 2013 годы – директор областного театра кукол имени Аркадия Гайдара, а в вузе был руководителем специальности «Актерское искусство», специализации «Актер театра кукол», ныне художественный руководитель Пермского театра кукол). Я к нему: «Помогите, у меня драматургия проседает. Не понимаю, что нужно сделать!» Он зашёл, объяснил про «малый круг», «большой круг», про «события». Половину я понимала, но слова были одни и те же, а значение — другое. Так мы поняли, что коллективу нужен режиссёр.редит вашего доверия, уважения и так далее. И наш диалог всегда строится из общих интересов.
— Шаг за шагом. Мы много экспериментировали. Опыта никакого. Образцов нет. Потом появился хореограф в коллективе. А как появился? Мы спектакль уже ставили. Выхожу в коридор из аудитории, идёт женщина. По выправке — очень похожа на хореографа. А мне помощь нужна. Я говорю: пожалуйста, помогите. Она зашла, посмотрела, показала два движения. Так появился хореограф.
В другой раз случайно проходил мимо нашего класса Дмитрий Вихрецкий (с 2004 по 2013 годы – директор областного театра кукол имени Аркадия Гайдара, а в вузе был руководителем специальности «Актерское искусство», специализации «Актер театра кукол», ныне художественный руководитель Пермского театра кукол). Я к нему: «Помогите, у меня драматургия проседает. Не понимаю, что нужно сделать!» Он зашёл, объяснил про «малый круг», «большой круг», про «события». Половину я понимала, но слова были одни и те же, а значение — другое. Так мы поняли, что коллективу нужен режиссёр.редит вашего доверия, уважения и так далее. И наш диалог всегда строится из общих интересов.
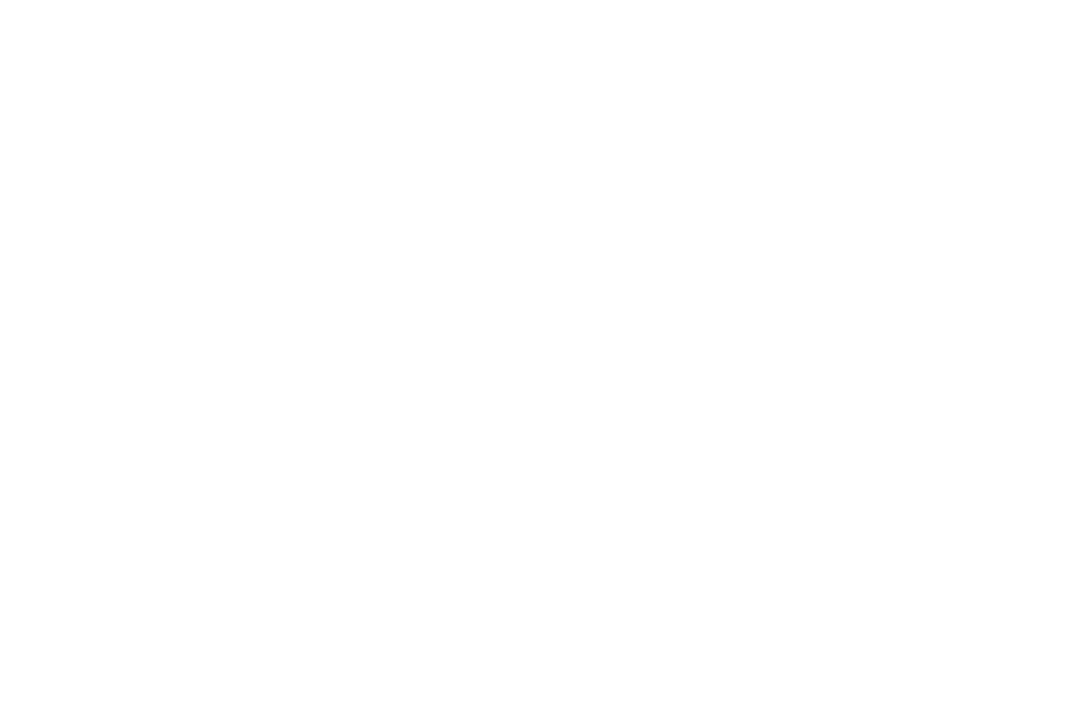
Я даже не помню, как мы начали работать с Валерием Дмитриевичем Пономарёвым. Лет пять, наверное, мы друг на друга смотрели, а потом сложилось сотрудничество. Пожалуй, самым невероятным спектаклем в начальном нашем периоде можно назвать «Контрапункты». Только наша фантазия могла соединить мессу Adiemus Карла Дженкинса — это один из самых исполняемых в мире композиторов — с картинами Босха и Малевича.
Помню, мы сделали какую-то часть спектакля, и стали пробовать с Босхом. Это же очень сложный художник. Я поделилась своей тревогой с Валерием Дмитриевичем о том, что у нас не получается дать будущему зрителю просветления, выхода. И наутро он говорит: «Всё, я понял — должен быть Малевич». И мы переходили от Босха к супрематизму Малевича. Очень интересно. Никогда не забуду.
Встретились со Светланой Вениаминовной Буратынской — руководителем нашего уникального ансамбля современной хореографии «Вечное движение». Валерий Дмитриевич говорит: «Света, покажи супрематический шаг». Она направила к нам своего студента, который потрясающе поставил номер благодаря этому супрематическому шагу. Идей было очень много, костюмы невероятные. Сложнейший спектакль, в котором девочки, наши актрисы, ни на секунду не прекращали движение. И этот переход из картины в картину Босха, а потом превращение в белый абсолют Малевича с появляющимися красками… Получился очень интересный спектакль.
Но, к сожалению, жизнь меняется, люди уходят. Первый наш хореограф Инга Анатольевна Пузырёва ушла на повышение, у Валерия Дмитриевича — другие планы. Но приходят другие. Так у нас появился Иван Александрович Крылов, и мы замечательно работаем вместе. И Станислав Олегович Садыков — главный режиссёр Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара.
Помню, мы сделали какую-то часть спектакля, и стали пробовать с Босхом. Это же очень сложный художник. Я поделилась своей тревогой с Валерием Дмитриевичем о том, что у нас не получается дать будущему зрителю просветления, выхода. И наутро он говорит: «Всё, я понял — должен быть Малевич». И мы переходили от Босха к супрематизму Малевича. Очень интересно. Никогда не забуду.
Встретились со Светланой Вениаминовной Буратынской — руководителем нашего уникального ансамбля современной хореографии «Вечное движение». Валерий Дмитриевич говорит: «Света, покажи супрематический шаг». Она направила к нам своего студента, который потрясающе поставил номер благодаря этому супрематическому шагу. Идей было очень много, костюмы невероятные. Сложнейший спектакль, в котором девочки, наши актрисы, ни на секунду не прекращали движение. И этот переход из картины в картину Босха, а потом превращение в белый абсолют Малевича с появляющимися красками… Получился очень интересный спектакль.
Но, к сожалению, жизнь меняется, люди уходят. Первый наш хореограф Инга Анатольевна Пузырёва ушла на повышение, у Валерия Дмитриевича — другие планы. Но приходят другие. Так у нас появился Иван Александрович Крылов, и мы замечательно работаем вместе. И Станислав Олегович Садыков — главный режиссёр Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара.
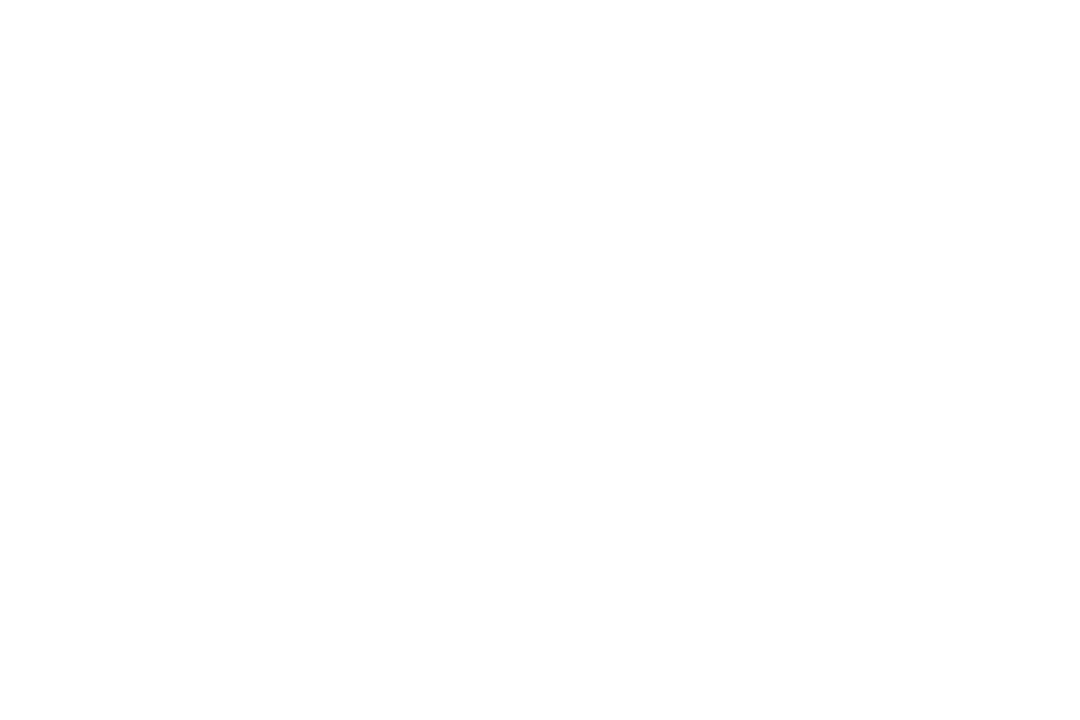
— Расскажите об эволюции коллектива
— Сначала коллектив назывался «Академический хор». Был женский хор «Академия», камерный хор «Академия». Все ступени мы проходили. С 2011 года называемся Хоровой театр «Академия».
Потом я поняла, что хоровой коллектив может существовать совершенно в других законах. Время другое, студенты другие, задачи другие — работать можно гораздо интереснее. У нас сложилась своя система, на неё работает вся кафедра. Создан учебный план, в котором есть дисциплины, позволяющие развивать направление «Хоровой театр».
Это позволяет нам делать качественные, интересные работы и совершенно по-другому развивать студентов.
— А где-то ещё в вузах культуры есть дисциплины по хоровому театру?
— Нет. Наш опыт уникальный. Когда мы всё это практически реализовывали, параллельно с нами писала диссертацию наша коллега Татьяна Константиновна Овчинникова. Мы не знали об этой диссертации, а потом оказалось, что всё то, что мы делали практическим путём, она описывала как желательное: хорошо бы, чтобы в вузах, в консерваториях, на хоровых отделениях был курс хорового театра. Потому что это популярнейшее направление — все хоровые коллективы пытаются себя в этом пробовать. И понятно, почему такая дифференциация артистов — уже даже певцами их не называют, все называют артистами хора.
Конечно, это требует определённой подготовки, но мы, пройдя путь с 2011 года, понимаем, что должны быть профессиональные режиссёры, профессиональные хореографы. Развивая это направление, мы очень многому научились благодаря театральной педагогике. Раньше мы говорили — репетиция хора. Сейчас называем только тренингом. Это система, которая максимально помогает выровнять способности студентов.
— Сначала коллектив назывался «Академический хор». Был женский хор «Академия», камерный хор «Академия». Все ступени мы проходили. С 2011 года называемся Хоровой театр «Академия».
Потом я поняла, что хоровой коллектив может существовать совершенно в других законах. Время другое, студенты другие, задачи другие — работать можно гораздо интереснее. У нас сложилась своя система, на неё работает вся кафедра. Создан учебный план, в котором есть дисциплины, позволяющие развивать направление «Хоровой театр».
Это позволяет нам делать качественные, интересные работы и совершенно по-другому развивать студентов.
— А где-то ещё в вузах культуры есть дисциплины по хоровому театру?
— Нет. Наш опыт уникальный. Когда мы всё это практически реализовывали, параллельно с нами писала диссертацию наша коллега Татьяна Константиновна Овчинникова. Мы не знали об этой диссертации, а потом оказалось, что всё то, что мы делали практическим путём, она описывала как желательное: хорошо бы, чтобы в вузах, в консерваториях, на хоровых отделениях был курс хорового театра. Потому что это популярнейшее направление — все хоровые коллективы пытаются себя в этом пробовать. И понятно, почему такая дифференциация артистов — уже даже певцами их не называют, все называют артистами хора.
Конечно, это требует определённой подготовки, но мы, пройдя путь с 2011 года, понимаем, что должны быть профессиональные режиссёры, профессиональные хореографы. Развивая это направление, мы очень многому научились благодаря театральной педагогике. Раньше мы говорили — репетиция хора. Сейчас называем только тренингом. Это система, которая максимально помогает выровнять способности студентов.
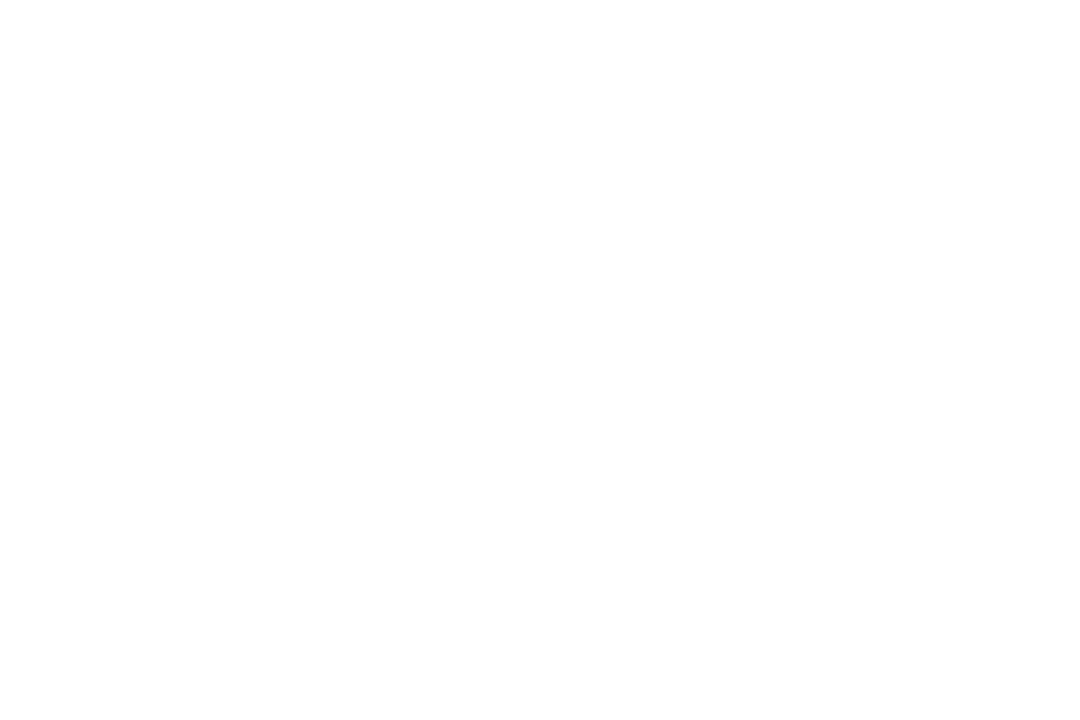
Ведь сегодня у нас вместе работают в хоре и первокурсники, и магистры. Между ними шесть лет разницы в обучении. Но в хоровом театре не может быть второго плана. Ты должен сразу влиться в коллектив. И я с гордостью об этом говорю: первый курс у нас уже отпел с нами два полноценных концерта. Что-то у них не получается, но благодаря этой системе они уже максимально вовлечены в процесс. Принцип в том, что общение строится не только по принципу руководитель-студент, но и по принципу студент-студент. Мы придумываем разные формы, упражнения, игры — вы сегодня видели, — в которых решаются наши педагогические задачи. Это много значит.
— Да, репетиция произвела на меня большое впечатление! Спасибо Вам! Я была поражена, насколько образным языком Вы говорите со студентами, как они включаются в работу. Не думаете о создании методологии этого процесса?
— Есть выдающийся хормейстер — он, слава Богу, ещё жив, несмотря на преклонный возраст. Владимир Николаевич Минин, которого я тоже считаю своим учителем. Он учитель всех нас, потому что в 70-е годы он совершил своеобразный переворот в хоровом исполнительстве. У него всего одна статья написана. Его спросили: «Почему при таком колоссальном опыте, всего одна?» Он ответил: «Потому что завтра это будет уже не актуально».
Достаточно сложно описывать голос, вокал. И я абсолютно спонтанный человек. Раньше на репетициях мне казалось, что это не я делаю, что открывается какой-то портал, и происходит чистое творчество... Второй раз повторить так же невозможно. Всё время завидовала методистам, которые работают «курочка клюёт по зёрнышку», а я начинаю «по зёрнышку», а клевок — не туда.
Сейчас я научилась и выработала благодаря своим студентам, коллегам чёткие алгоритмы в деятельности. Эти алгоритмы помогают нам очень быстро делать разные виды работы — то, что касается технической составляющей.
— Да, репетиция произвела на меня большое впечатление! Спасибо Вам! Я была поражена, насколько образным языком Вы говорите со студентами, как они включаются в работу. Не думаете о создании методологии этого процесса?
— Есть выдающийся хормейстер — он, слава Богу, ещё жив, несмотря на преклонный возраст. Владимир Николаевич Минин, которого я тоже считаю своим учителем. Он учитель всех нас, потому что в 70-е годы он совершил своеобразный переворот в хоровом исполнительстве. У него всего одна статья написана. Его спросили: «Почему при таком колоссальном опыте, всего одна?» Он ответил: «Потому что завтра это будет уже не актуально».
Достаточно сложно описывать голос, вокал. И я абсолютно спонтанный человек. Раньше на репетициях мне казалось, что это не я делаю, что открывается какой-то портал, и происходит чистое творчество... Второй раз повторить так же невозможно. Всё время завидовала методистам, которые работают «курочка клюёт по зёрнышку», а я начинаю «по зёрнышку», а клевок — не туда.
Сейчас я научилась и выработала благодаря своим студентам, коллегам чёткие алгоритмы в деятельности. Эти алгоритмы помогают нам очень быстро делать разные виды работы — то, что касается технической составляющей.
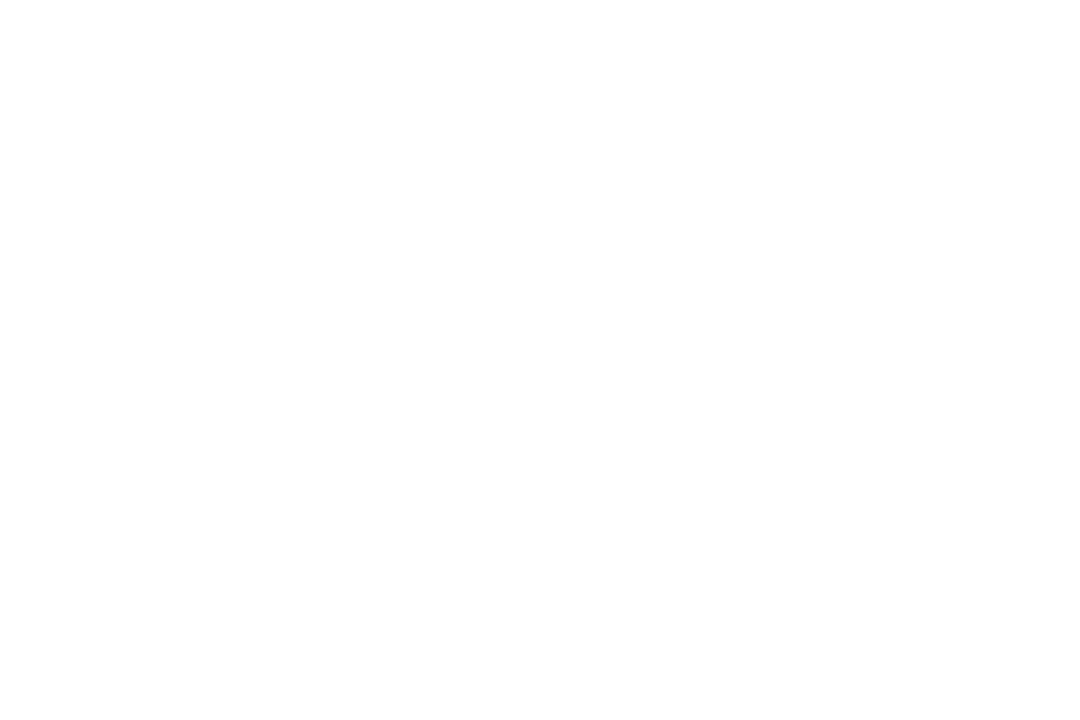
— Расскажите о педагогических открытиях в работе с хором
— Самое большое откровение — это бельканто, итальянская техника виртуозного пения. Один из наших выдающихся певцов проанализировал эту школу и нашёл шесть основных постулатов. Один из этих постулатов, мне кажется, любому художественному сценическому направлению поможет в реализации выразительности.
Пение — процесс рефлекторный. Это значит, что на сцене, если рефлекс не наработан, это уже невозможно исправить.
Плюс мы все знаем, что есть эстрадное волнение, и градус того, что мы делаем, повышается, результат всегда иной, особенно когда публика даёт тебе в ответ свою энергию.
Основная ошибка — то, что мы вырабатываем рефлексы, которые касаются физиологии или выучки текста. И никто не думает, что эмоция тоже рефлекторна. И если ты не наработал эту эмоцию, она не перейдёт в выразительность на сцене.
— Самое большое откровение — это бельканто, итальянская техника виртуозного пения. Один из наших выдающихся певцов проанализировал эту школу и нашёл шесть основных постулатов. Один из этих постулатов, мне кажется, любому художественному сценическому направлению поможет в реализации выразительности.
Пение — процесс рефлекторный. Это значит, что на сцене, если рефлекс не наработан, это уже невозможно исправить.
Плюс мы все знаем, что есть эстрадное волнение, и градус того, что мы делаем, повышается, результат всегда иной, особенно когда публика даёт тебе в ответ свою энергию.
Основная ошибка — то, что мы вырабатываем рефлексы, которые касаются физиологии или выучки текста. И никто не думает, что эмоция тоже рефлекторна. И если ты не наработал эту эмоцию, она не перейдёт в выразительность на сцене.
Очень часто руководители хоровых коллективов стоят перед детками на концерте и показывают: улыбайтесь, улыбайтесь! Дети первые три секунды улыбаются, а потом опять просто рассказывают слова, даже где-то стараются выразительно что-то показать, но это невозможно. И как только мы начали учитывать в работе эти моменты, что эмоция, технология, выучка текста взаимосвязаны, пришли невероятные результаты.
Точно так же, когда мы начинали хоровой театр, я очень благодарна ученикам, которые тогда были студентами. Они были абсолютно безбашенными в хорошем смысле слова — на все нововведения, на сценические воплощения шли с такой смелостью! Вспомнила, как они несколько раз приносили мне «Богемскую рапсодию» Queen! Мы тогда выступали на уровне «Студенческой весны». Я сказала: «Идите учите, нравится вам — делайте».
И вдруг поняла, что мессу Гайдна мы учим месяц, и они не могут её выучить. А Queen выучили за две репетиции наизусть — причём с движениями, с прыжками. Потом Инга Анатольевна Пузырёва ещё драку поставила — забавная история была. И я задумалась, почему при таких сложностях, они запомнили это произведение быстрее? Да потому что эмоционально были заряжены, потому что им нравилось, и отклик пошёл сразу.
Всё, что мы сейчас имеем, все наши наработки — это вклад каждого студента, кто работал в «Академии». Абсолютно смело могу сказать — они являлись моими учителями. Потому что это личности. Мне больше всего на свете нравится работать с людьми. Человек — это как книга. Его прочитываешь и не можешь понять. Хорошую, талантливую книгу не можешь понять. Её можно только почувствовать.
Я в детстве очень много читала. Но самой любимой книгой до сих пор осталась «Анна Каренина». Потому что, сколько бы раз я ни возвращалась к ней — это всё время совершенно иная книга. То ли я взрослею, то ли какие-то вещи другие открываются со временем. Так вот, мне кажется, и с людьми примерно также.
Точно так же, когда мы начинали хоровой театр, я очень благодарна ученикам, которые тогда были студентами. Они были абсолютно безбашенными в хорошем смысле слова — на все нововведения, на сценические воплощения шли с такой смелостью! Вспомнила, как они несколько раз приносили мне «Богемскую рапсодию» Queen! Мы тогда выступали на уровне «Студенческой весны». Я сказала: «Идите учите, нравится вам — делайте».
И вдруг поняла, что мессу Гайдна мы учим месяц, и они не могут её выучить. А Queen выучили за две репетиции наизусть — причём с движениями, с прыжками. Потом Инга Анатольевна Пузырёва ещё драку поставила — забавная история была. И я задумалась, почему при таких сложностях, они запомнили это произведение быстрее? Да потому что эмоционально были заряжены, потому что им нравилось, и отклик пошёл сразу.
Всё, что мы сейчас имеем, все наши наработки — это вклад каждого студента, кто работал в «Академии». Абсолютно смело могу сказать — они являлись моими учителями. Потому что это личности. Мне больше всего на свете нравится работать с людьми. Человек — это как книга. Его прочитываешь и не можешь понять. Хорошую, талантливую книгу не можешь понять. Её можно только почувствовать.
Я в детстве очень много читала. Но самой любимой книгой до сих пор осталась «Анна Каренина». Потому что, сколько бы раз я ни возвращалась к ней — это всё время совершенно иная книга. То ли я взрослею, то ли какие-то вещи другие открываются со временем. Так вот, мне кажется, и с людьми примерно также.
— И как Вы применяете это в работе со студентами?
— Когда приходит человечек, ты видишь его в каком-то идеальном взрослом проявлении, потому что мне они все кажутся такими же, как я. Я так удивляюсь, что они чего-то не умеют: как это вы не понимаете, как это вы не знаете? И это очень помогает в работе — не видеть недостатки, а видеть только эталонные идеалы в них. Скажу совершенно чётко — им очень сложно. Ну, представляете: ребёнок пришёл в восемнадцать лет, даже если после училища, а я сразу с ним общаюсь, как будто он уже прожил, как и я, годы. Конечно, понимают они долго, устают, но зато, как я вышла из консерватории другим человеком, они тоже от нас выходят другими. И это очень радует.
— «Что ты чувствуешь?» — Вы спрашивали на репетиции. Про чувствование мало кто говорит из преподавателей.
— А это очень важно. На репетиции были первокурсники, которые не знают музыкальный материал, но мне хотелось погрузить их в совершенно другую атмосферу.
Вообще, мне кажется, музыка — это такой дар Вселенной, и блаженны те, кто занимаются ею. Конечно, музыкальная школа — это очень сложно. Потому что это абсолютно другой язык, другой тип мышления. И если ещё педагог мудрый попадётся, который не будет вводить ребёнка в лишние сложности...
— Когда приходит человечек, ты видишь его в каком-то идеальном взрослом проявлении, потому что мне они все кажутся такими же, как я. Я так удивляюсь, что они чего-то не умеют: как это вы не понимаете, как это вы не знаете? И это очень помогает в работе — не видеть недостатки, а видеть только эталонные идеалы в них. Скажу совершенно чётко — им очень сложно. Ну, представляете: ребёнок пришёл в восемнадцать лет, даже если после училища, а я сразу с ним общаюсь, как будто он уже прожил, как и я, годы. Конечно, понимают они долго, устают, но зато, как я вышла из консерватории другим человеком, они тоже от нас выходят другими. И это очень радует.
— «Что ты чувствуешь?» — Вы спрашивали на репетиции. Про чувствование мало кто говорит из преподавателей.
— А это очень важно. На репетиции были первокурсники, которые не знают музыкальный материал, но мне хотелось погрузить их в совершенно другую атмосферу.
Вообще, мне кажется, музыка — это такой дар Вселенной, и блаженны те, кто занимаются ею. Конечно, музыкальная школа — это очень сложно. Потому что это абсолютно другой язык, другой тип мышления. И если ещё педагог мудрый попадётся, который не будет вводить ребёнка в лишние сложности...
По сути, мы сейчас так же работаем со своими первокурсниками. Они всё время рассказывают, говорят то, что чувствуют, не боятся ошибиться. Старшекурсники говорят на эту же тему — что они понимают, как понимают. Мы устанавливаем общий понятийный язык, слышим друг друга. А самое главное — мы друг друга чувствуем.
Они видят, как внимательно я приглядываюсь к каждому. Они видят, что я не просто строгая тётенька — я очень строгий педагог. Есть вещи, которые без строгости невозможны. Но что при этом основа? Есть ученик, есть поступок. И бывает всякое. А есть личность, и она неприкосновенна. Даже если ты не очень подготовился — хотя такого не бывает, чтобы они не готовились — всё равно мы тебя любим.
Девчонки называют наш коллектив аномально выразительным и добрым. Мы смеялись над этим. Но это, действительно, так.
Они видят, как внимательно я приглядываюсь к каждому. Они видят, что я не просто строгая тётенька — я очень строгий педагог. Есть вещи, которые без строгости невозможны. Но что при этом основа? Есть ученик, есть поступок. И бывает всякое. А есть личность, и она неприкосновенна. Даже если ты не очень подготовился — хотя такого не бывает, чтобы они не готовились — всё равно мы тебя любим.
Девчонки называют наш коллектив аномально выразительным и добрым. Мы смеялись над этим. Но это, действительно, так.
— Как Вы это выстраиваете?
— Сначала я очень жёстко не разрешала ссориться, сплетничать, скандалить и говорила: «Невозможно быть птушницей в жизни, а потом на сцену выйти королевой. Невозможно друг друга не любить, ненавидеть, козни строить, а потом вместе работать».
Мне иногда кажется, что я в жизни вообще ничего не сделала сама. Мне кажется, небеса просто ведут меня по жизни. Наверное, всех так, просто мы не очень слышим своих ангелов-хранителей. И мне кажется, что они разговаривают со мной устами других людей. Моя мама еще в самом начале моей жизни заложила важное правило — доверять людям. Когда ты живёшь в атмосфере полного доверия и доброты, думаешь, что весь мир такой.
— Сначала я очень жёстко не разрешала ссориться, сплетничать, скандалить и говорила: «Невозможно быть птушницей в жизни, а потом на сцену выйти королевой. Невозможно друг друга не любить, ненавидеть, козни строить, а потом вместе работать».
Мне иногда кажется, что я в жизни вообще ничего не сделала сама. Мне кажется, небеса просто ведут меня по жизни. Наверное, всех так, просто мы не очень слышим своих ангелов-хранителей. И мне кажется, что они разговаривают со мной устами других людей. Моя мама еще в самом начале моей жизни заложила важное правило — доверять людям. Когда ты живёшь в атмосфере полного доверия и доброты, думаешь, что весь мир такой.
— И не было никогда болезненных ситуаций?
— Да что вы! Очень много.
— У нас очень совпадает мировосприятие. Как Вы выбираетесь из сложных ситуаций? Что вам помогает идти дальше?
— Сейчас, наверное, с возрастом уже силы не те, а раньше я с каким-то животным упорством преодолевала сложные ситуации. Искала выход. И в какой-то момент так сложилось, что мир перевернулся вообще. Я не знала, что делать, как выйти из этого, и стала очень много читать книг по саморазвитию, по психологии.
У меня есть второе образование по психологии. Просто подумала однажды, что очень много нужно энергии на коллектив, на руководство. И что надо, наверное, какой-то запасной аэродром иметь. А что мне ещё нравится больше всего? Люди. И книги, конечно, книги.
— Что изменила эта литература в Вашей работе?
— Консерватория не только золото дала, она и некоторые не очень хорошие качества, которые и так во мне были сильны, развила. Тогда почему-то считалось, что работать надо очень жёстко и властно. И если на репетициях моих любимых педагогов кто-то не плакал, то репетиция прошла зря. Это сейчас мы когда собираемся, выпускники консерватории, говорим: «Времена другие, многое изменилось. Это «упал-отжался» не проходит, надо искать другие выходы».
— Да что вы! Очень много.
— У нас очень совпадает мировосприятие. Как Вы выбираетесь из сложных ситуаций? Что вам помогает идти дальше?
— Сейчас, наверное, с возрастом уже силы не те, а раньше я с каким-то животным упорством преодолевала сложные ситуации. Искала выход. И в какой-то момент так сложилось, что мир перевернулся вообще. Я не знала, что делать, как выйти из этого, и стала очень много читать книг по саморазвитию, по психологии.
У меня есть второе образование по психологии. Просто подумала однажды, что очень много нужно энергии на коллектив, на руководство. И что надо, наверное, какой-то запасной аэродром иметь. А что мне ещё нравится больше всего? Люди. И книги, конечно, книги.
— Что изменила эта литература в Вашей работе?
— Консерватория не только золото дала, она и некоторые не очень хорошие качества, которые и так во мне были сильны, развила. Тогда почему-то считалось, что работать надо очень жёстко и властно. И если на репетициях моих любимых педагогов кто-то не плакал, то репетиция прошла зря. Это сейчас мы когда собираемся, выпускники консерватории, говорим: «Времена другие, многое изменилось. Это «упал-отжался» не проходит, надо искать другие выходы».
Книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» перевернула моё сознание. Я впервые в очень сложной ситуации пришла и спросила каждого из хора: «А ты что будешь делать? Какая сейчас будет твоя роль в этом концерте?» Я очень удивилась, как девочки совершенно по-другому стали работать.
Точно могу сказать, что из всех сложнейших ситуаций, которые были в жизни, в коллективе, в семье — жизнь разная бывает — эти знания стали для меня большой поддержкой.
— Знания психологии?
Да. Совершенным удивлением стала когда-то фраза: жить надо так, как будто ты завтра предстанешь перед Господом на суд Божий, о людях надо говорить только то, что ты можешь сказать им в глаза, как будто они рядом с тобой присутствуют.
Мне кажется, здесь нет предела совершенству, и постоянно в этом живёшь. Музыка стала другая, отношения с людьми стали другими. И, конечно, я вижу, насколько могу помочь студентам, которые приходят к нам.
Точно могу сказать, что из всех сложнейших ситуаций, которые были в жизни, в коллективе, в семье — жизнь разная бывает — эти знания стали для меня большой поддержкой.
— Знания психологии?
Да. Совершенным удивлением стала когда-то фраза: жить надо так, как будто ты завтра предстанешь перед Господом на суд Божий, о людях надо говорить только то, что ты можешь сказать им в глаза, как будто они рядом с тобой присутствуют.
Мне кажется, здесь нет предела совершенству, и постоянно в этом живёшь. Музыка стала другая, отношения с людьми стали другими. И, конечно, я вижу, насколько могу помочь студентам, которые приходят к нам.
— Очень ценно, когда встречается именно такой наставник. Особенно в юности.
— Спасибо. Наверное. Правда, я чувствую невероятное удовлетворение от того, что перестала испытывать к людям негатив. Я перестала иметь потребность узнавать какие-то неприятные сведения о людях.
— Очень хорошо Вас понимаю
— При всей моей силе и характере я абсолютный миротворец. Мне надо, чтобы всё было красиво, очень по-человечески, чтобы всем было хорошо. Знаете, я вдруг подумала — я наконец-то вернулась к себе такой, какой была в детстве.
Я очень травматично воспринимала любые несправедливости, людские обиды. И сейчас мне очень хорошо и комфортно в этой бесконфликтности.
Это сложно, потому что не всегда возможно в жизни, но в работе, особенно руководителей — я всё-таки декан факультета — приходится где-то очень жёстко, именно структурно жёстко держать какие-то вещи.
— Спасибо. Наверное. Правда, я чувствую невероятное удовлетворение от того, что перестала испытывать к людям негатив. Я перестала иметь потребность узнавать какие-то неприятные сведения о людях.
— Очень хорошо Вас понимаю
— При всей моей силе и характере я абсолютный миротворец. Мне надо, чтобы всё было красиво, очень по-человечески, чтобы всем было хорошо. Знаете, я вдруг подумала — я наконец-то вернулась к себе такой, какой была в детстве.
Я очень травматично воспринимала любые несправедливости, людские обиды. И сейчас мне очень хорошо и комфортно в этой бесконфликтности.
Это сложно, потому что не всегда возможно в жизни, но в работе, особенно руководителей — я всё-таки декан факультета — приходится где-то очень жёстко, именно структурно жёстко держать какие-то вещи.
— Мне кажется, эта способность так воспринимать мир и людей в нём с годами вырабатывается. С опытом прожитого, с возможностью проанализировать своё поведение в молодости, потом в среднем возрасте... Я очень чётко знаю про себя, что мне сложно душить гордыню. Но когда это действительно получается, я праздную победу.
— И моя гордыня – жёсткое для меня испытание. Причём, чем больше её узнаёшь, тем больше обличий она принимает. А ещё девчонок я тоже этому учу. Они ведь уже с опытом приходят. Но у них больше страхов. Страхи бывают разные. И когда они понимают, что это просто программа, которую надо узнавать и уметь отделять от себя, сразу всё напряжение уходит. И ты становишься в хорошем смысле чистым для того, чтобы делать что-то высокое.
Эта общая энергия, которая есть в коллективе, потребность света, какой-то чистоты в отношениях, в работе, конечно, она очень сильно отражается на наших спектаклях, концертных программах. Очень хочется, чтобы от нашего коллектива шло то, что всегда ждут от искусства. Чтобы люди выздоравливали, приходя на концерты.
И, конечно, хочется, чтобы наши выпускники несли то, что положено нести людям культуры — культуру настоящую, истинную, которая идёт от любви, доброты, сопереживания, сочувствия, сострадания человеку.
— Если подвести итог...
—Я абсолютно счастливый человек!
— И моя гордыня – жёсткое для меня испытание. Причём, чем больше её узнаёшь, тем больше обличий она принимает. А ещё девчонок я тоже этому учу. Они ведь уже с опытом приходят. Но у них больше страхов. Страхи бывают разные. И когда они понимают, что это просто программа, которую надо узнавать и уметь отделять от себя, сразу всё напряжение уходит. И ты становишься в хорошем смысле чистым для того, чтобы делать что-то высокое.
Эта общая энергия, которая есть в коллективе, потребность света, какой-то чистоты в отношениях, в работе, конечно, она очень сильно отражается на наших спектаклях, концертных программах. Очень хочется, чтобы от нашего коллектива шло то, что всегда ждут от искусства. Чтобы люди выздоравливали, приходя на концерты.
И, конечно, хочется, чтобы наши выпускники несли то, что положено нести людям культуры — культуру настоящую, истинную, которая идёт от любви, доброты, сопереживания, сочувствия, сострадания человеку.
— Если подвести итог...
—Я абсолютно счастливый человек!
Автор идеи проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Евгений Лехнер
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Евгений Лехнер