Без музейщиков никуда!
Дарья Родионова — кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой музейного дела КемГИК и руководитель Федерального учебно-методического совета по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
Под её руководством объединены все тринадцать вузов культуры страны, осуществляющих подготовку музейных специалистов, а созданная кафедрой музейного дела лаборатория по адаптации художественного наследия для людей с нарушением зрения стала единственной в своём роде среди российских институтов культуры.
О том, как готовят универсальных музейных сотрудников в КемГИК, о профессиональных династиях, о лаборатории по адаптации художественного наследия для людей с нарушением зрения, уникальном музее Андрея Панина и почему в музее не должны работать кондитеры, мы поговорили с Дарьей Родионовой.
Под её руководством объединены все тринадцать вузов культуры страны, осуществляющих подготовку музейных специалистов, а созданная кафедрой музейного дела лаборатория по адаптации художественного наследия для людей с нарушением зрения стала единственной в своём роде среди российских институтов культуры.
О том, как готовят универсальных музейных сотрудников в КемГИК, о профессиональных династиях, о лаборатории по адаптации художественного наследия для людей с нарушением зрения, уникальном музее Андрея Панина и почему в музее не должны работать кондитеры, мы поговорили с Дарьей Родионовой.
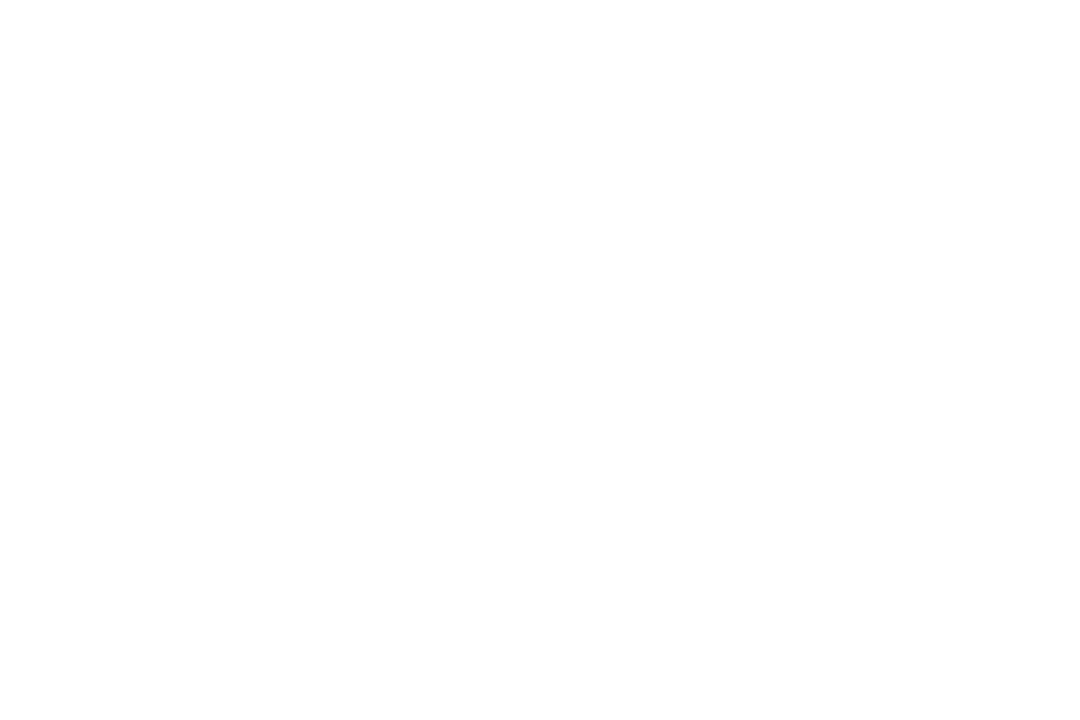
Я не планировала связать жизнь с музеями
— Дарья, как началась ваша музейная история?
— Честно говоря, никогда не планировала связывать жизнь с музеями. В 1999 году я пришла в КемГИК лаборантом на кафедру истории, когда здесь появился доктор культурологии, профессор Анатолий Михайлович Кулемзин с идеей создания кафедры музейного дела. Тогда я и представить не могла, что через 17 лет стану руководителем Федерального учебно-методического совета по направлению «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», объединившим все 13 вузов страны, готовящих музейных специалистов.
— Как создавалась кафедра?
— Под руководством Анатолия Михайловича общенаучная кафедра истории была преобразована в кафедру истории, музееведения и краеведения. В 2000 году официально открылась наша кафедра — одна из первых за Уралом после Улан-Удэ. Параллельно аналогичная кафедра появилась в Алтайском государственном институте культуры.
Уже в 2001 году мы разработали революционную для того времени программу — первую в стране специализацию «Менеджмент музейного дела» совместно с кафедрой управления и экономики социальной сферы. А Анатолий Михайлович защитил первую в Сибири докторскую диссертацию по музееведению, проследив всю историю памятникоохранительной деятельности в России.
— Честно говоря, никогда не планировала связывать жизнь с музеями. В 1999 году я пришла в КемГИК лаборантом на кафедру истории, когда здесь появился доктор культурологии, профессор Анатолий Михайлович Кулемзин с идеей создания кафедры музейного дела. Тогда я и представить не могла, что через 17 лет стану руководителем Федерального учебно-методического совета по направлению «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», объединившим все 13 вузов страны, готовящих музейных специалистов.
— Как создавалась кафедра?
— Под руководством Анатолия Михайловича общенаучная кафедра истории была преобразована в кафедру истории, музееведения и краеведения. В 2000 году официально открылась наша кафедра — одна из первых за Уралом после Улан-Удэ. Параллельно аналогичная кафедра появилась в Алтайском государственном институте культуры.
Уже в 2001 году мы разработали революционную для того времени программу — первую в стране специализацию «Менеджмент музейного дела» совместно с кафедрой управления и экономики социальной сферы. А Анатолий Михайлович защитил первую в Сибири докторскую диссертацию по музееведению, проследив всю историю памятникоохранительной деятельности в России.
— Как обстоит дело с музейным образованием в стране?
— Сегодня все 13 вузов культуры готовят музейщиков. Двенадцать — на базе направления «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», и только в Самаре — в рамках направлений подготовки культурологии и социально-культурной деятельности реализуется данный профиль. Специальность очень востребована, но мест, к сожалению, выделяется мало, особенно учитывая текущую стандартизацию музейной деятельности и особое внимание к музеям в рамках модернизации сферы культуры.
— Какова ваша роль в создании образовательных стандартов?
— Мне удалось создать команду профессионалов, которые стали авторами обязательных образовательных программ для подготовки музейных специалистов. Это Елена Николаевна Мастеница, Сундиева Аннета Альфредовна, Елена Юрьевна Степанова, Елена Александровна Полякова и другие коллеги. Мы приложили максимальные усилия, чтобы собрать те дисциплины в учебные планы подготовки музеологов, которые составляют ядро музейной профессии и делают выпускника полноценным музейщиком.
— Сегодня все 13 вузов культуры готовят музейщиков. Двенадцать — на базе направления «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», и только в Самаре — в рамках направлений подготовки культурологии и социально-культурной деятельности реализуется данный профиль. Специальность очень востребована, но мест, к сожалению, выделяется мало, особенно учитывая текущую стандартизацию музейной деятельности и особое внимание к музеям в рамках модернизации сферы культуры.
— Какова ваша роль в создании образовательных стандартов?
— Мне удалось создать команду профессионалов, которые стали авторами обязательных образовательных программ для подготовки музейных специалистов. Это Елена Николаевна Мастеница, Сундиева Аннета Альфредовна, Елена Юрьевна Степанова, Елена Александровна Полякова и другие коллеги. Мы приложили максимальные усилия, чтобы собрать те дисциплины в учебные планы подготовки музеологов, которые составляют ядро музейной профессии и делают выпускника полноценным музейщиком.
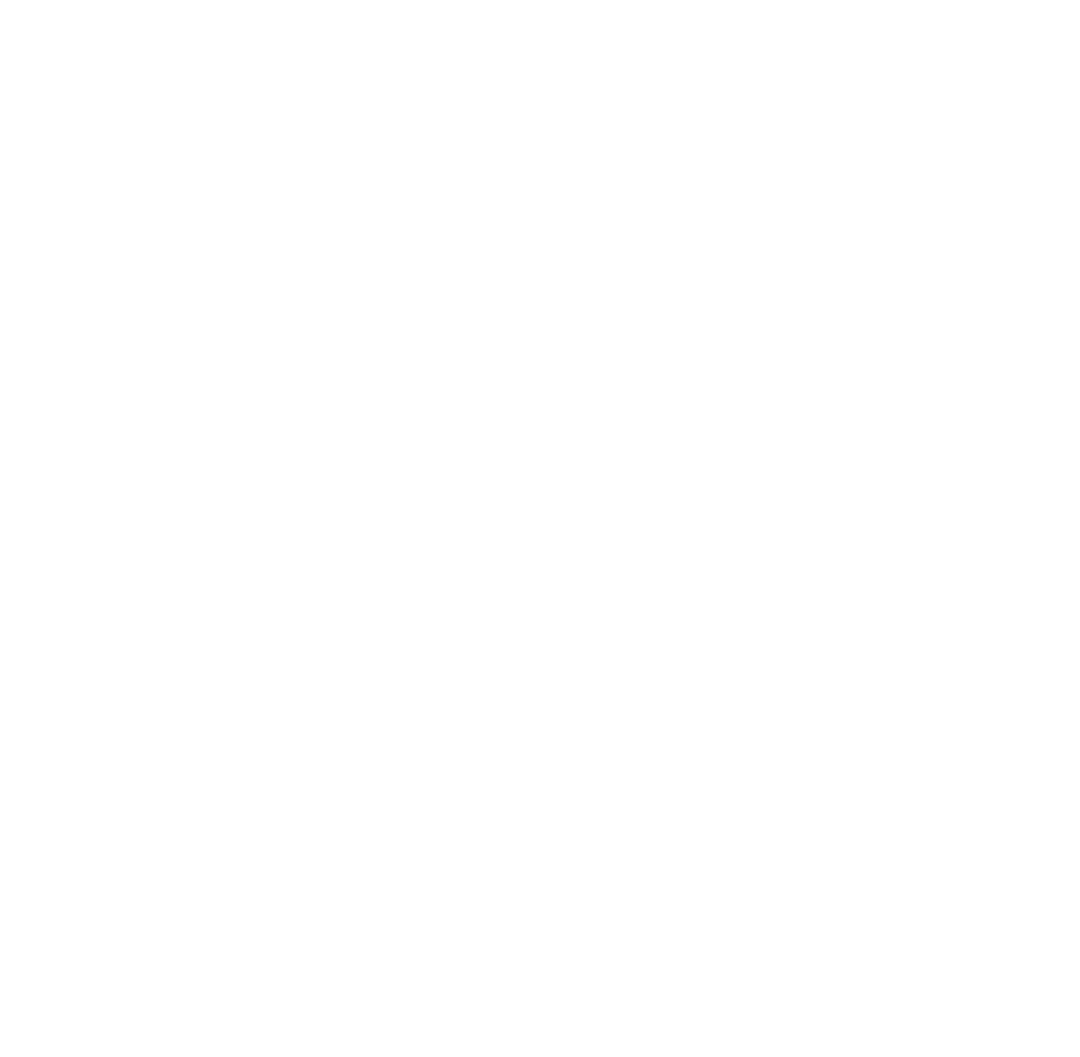
Забудьте, чему вас учили в вузе
— Ваша философия музейного образования?
— Я позиционирую себя как теоретика музейного дела. Заниматься музейной наукой и подготовкой специалистов — это колоссальная ответственность. Если не понимаешь структуру музейной деятельности, невозможно создать адекватное ядро дисциплин. Ключевой вопрос: чему мы должны научить будущих музейщиков, чтобы они состоялись как профессионалы?
— Как решается извечная проблема теории и практики?
— В любом учреждении — будь то музей, библиотека или поликлиника — молодому специалисту первым делом говорят: «Забудьте, чему вас учили в вузе, здесь всё по-другому». Но когда у выпускника есть качественная теоретическая база, он способен адаптироваться к любой среде — от Эрмитажа до небольшого муниципального музея. Фундаментальные знания дают гибкость мышления.
— Как менялись приоритеты в подготовке специалистов за четверть века?
— Эволюция очевидна: наш первый выпуск составляли менеджеры — в 2000-х это было крайне востребовано. Сегодня акцент сместился на культурный туризм и экскурсионную деятельность, информационные технологии в музейной деятельности. Нам нужны специалисты, которые умеют презентовать локальную историю — без лишнего пафоса, но так, чтобы заинтересовать любую аудиторию.
— Я позиционирую себя как теоретика музейного дела. Заниматься музейной наукой и подготовкой специалистов — это колоссальная ответственность. Если не понимаешь структуру музейной деятельности, невозможно создать адекватное ядро дисциплин. Ключевой вопрос: чему мы должны научить будущих музейщиков, чтобы они состоялись как профессионалы?
— Как решается извечная проблема теории и практики?
— В любом учреждении — будь то музей, библиотека или поликлиника — молодому специалисту первым делом говорят: «Забудьте, чему вас учили в вузе, здесь всё по-другому». Но когда у выпускника есть качественная теоретическая база, он способен адаптироваться к любой среде — от Эрмитажа до небольшого муниципального музея. Фундаментальные знания дают гибкость мышления.
— Как менялись приоритеты в подготовке специалистов за четверть века?
— Эволюция очевидна: наш первый выпуск составляли менеджеры — в 2000-х это было крайне востребовано. Сегодня акцент сместился на культурный туризм и экскурсионную деятельность, информационные технологии в музейной деятельности. Нам нужны специалисты, которые умеют презентовать локальную историю — без лишнего пафоса, но так, чтобы заинтересовать любую аудиторию.
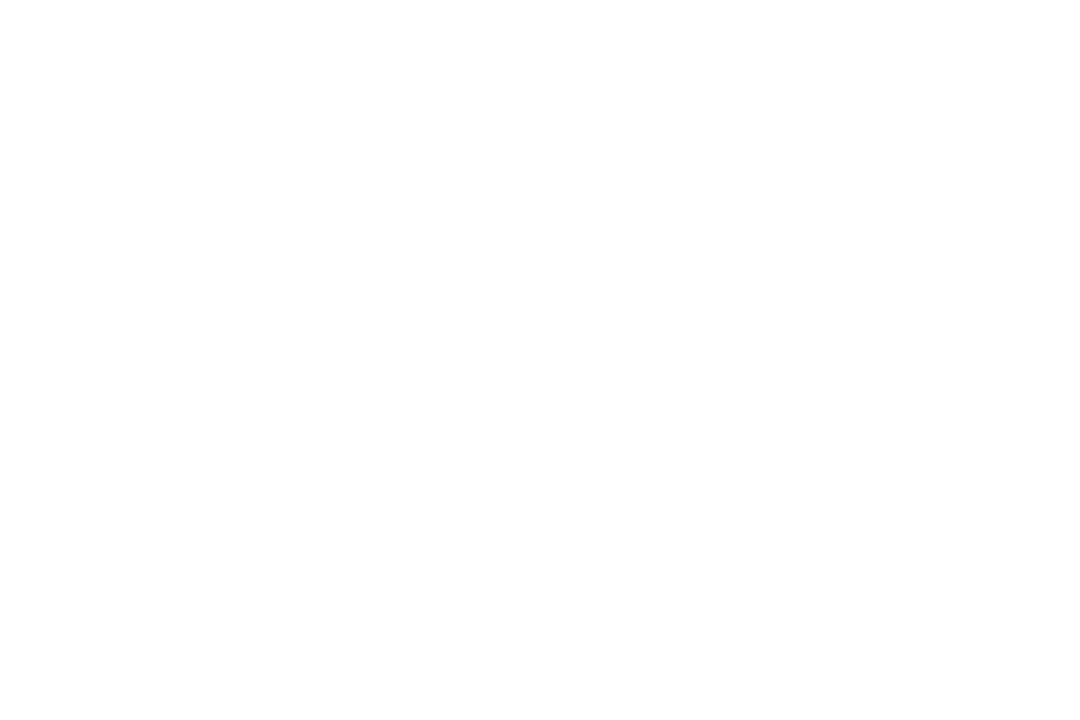
Династии и традиции: профессия по наследству
— Расскажите о музейных династиях на вашей кафедре.
— На кафедре музейного дела стало семейной традицией. История семьи Кимеевых — это уникальная сибирская династия этногрофов и музееведов трёх поколений: Валерий Макарович работал на кафедре, Татьяна Ивановна защитила докторскую по культурологии в ковидный период, дочь Полина Валерьевна стала кандидатом наук по музееведению. Сегодня внук Валерия Макаровича и Татьяны Ивановны обучается в магистратуре и работает в Кузбасском краеведческом музее.
— На кафедре музейного дела стало семейной традицией. История семьи Кимеевых — это уникальная сибирская династия этногрофов и музееведов трёх поколений: Валерий Макарович работал на кафедре, Татьяна Ивановна защитила докторскую по культурологии в ковидный период, дочь Полина Валерьевна стала кандидатом наук по музееведению. Сегодня внук Валерия Макаровича и Татьяны Ивановны обучается в магистратуре и работает в Кузбасском краеведческом музее.
У меня корни уходят в педагогику и культуру: дед всю жизнь проработал учителем после окончания Казанского университета, мама — выпускница Новосибирской консерватории, заслуженный работник культуры, посвятившая себя детской музыкальной школе. Сын Семён тоже выбрал музейную стезю, но уже практическую — сразу после института пошёл работать на Томскую писаницу, а теперь работает в Музее изобразительных искусств Кузбасса.
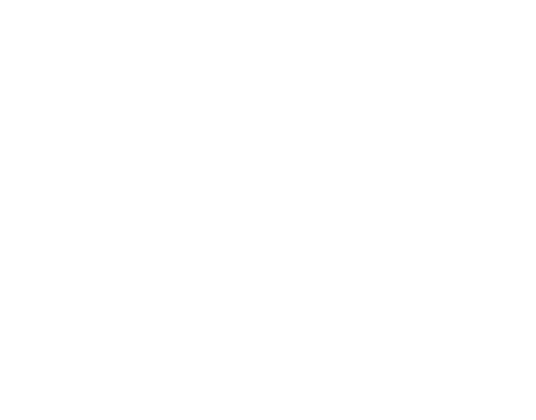
Ценность музейной профессии
— Много желающих поступить на музейное дело?
— Конкурс есть, но проблема в том, что молодёжь не понимает ценности музейной профессии. Корни проблемы — в школе. В наше время мы постоянно бывали в музеях, изучали краеведение и историю непосредственно в экспозициях — в отделах природы, истории, военной истории. Сегодня такие походы стали редкостью.
Поразительно, но даже взрослые наши ровесники удивляются, когда попадают в современные музеи. Спрашиваю знакомых: «Были в Краеведческом музее? Что изменилось?» Когда удаётся их туда затащить, они выходят потрясёнными — это уже совсем не тот музей, который был 30-50 лет назад.
— Когда в нём стояли чучела животных?
— Чучела остались, но теперь они экспонируются совершенно по-другому. Качество изготовления, подача — всё изменилось кардинально. В нашем Кузбасском краеведческом музее чучела статичны, но фон за ними динамичный, меняющийся. Это создаёт совершенно иное восприятие.
— Конкурс есть, но проблема в том, что молодёжь не понимает ценности музейной профессии. Корни проблемы — в школе. В наше время мы постоянно бывали в музеях, изучали краеведение и историю непосредственно в экспозициях — в отделах природы, истории, военной истории. Сегодня такие походы стали редкостью.
Поразительно, но даже взрослые наши ровесники удивляются, когда попадают в современные музеи. Спрашиваю знакомых: «Были в Краеведческом музее? Что изменилось?» Когда удаётся их туда затащить, они выходят потрясёнными — это уже совсем не тот музей, который был 30-50 лет назад.
— Когда в нём стояли чучела животных?
— Чучела остались, но теперь они экспонируются совершенно по-другому. Качество изготовления, подача — всё изменилось кардинально. В нашем Кузбасском краеведческом музее чучела статичны, но фон за ними динамичный, меняющийся. Это создаёт совершенно иное восприятие.
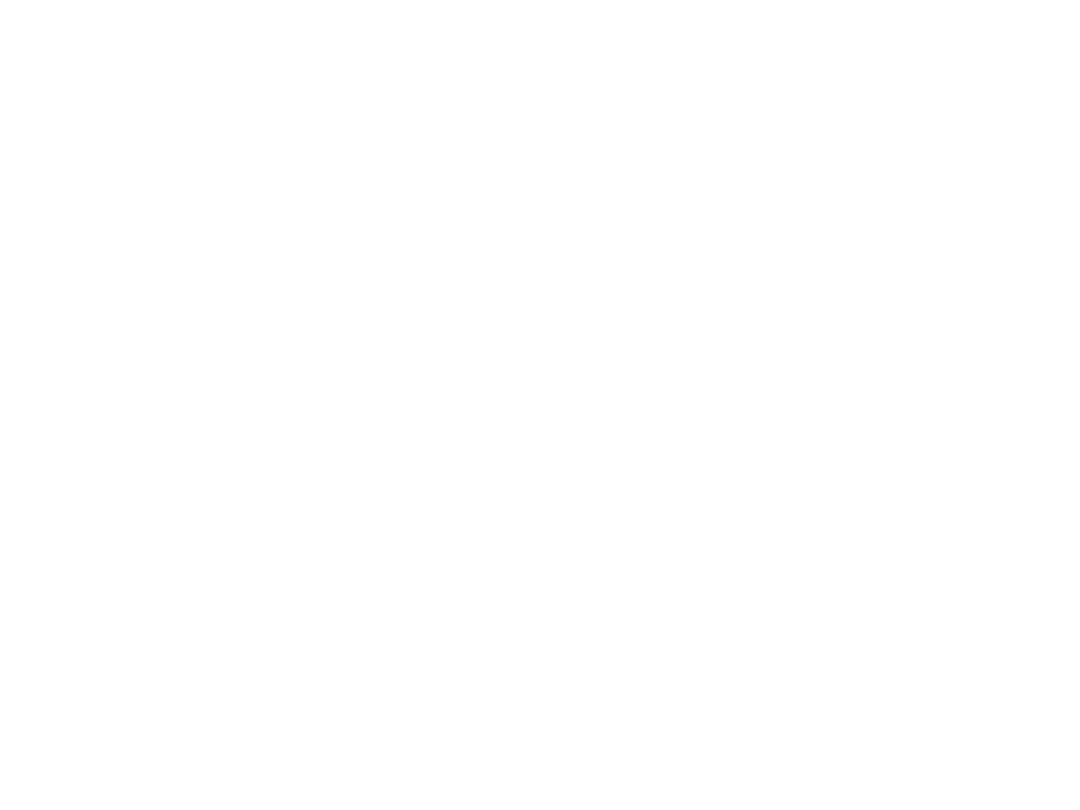
— Как обстоят дела со сторителлингом в музеях?
— Работа с информацией — основа музейной деятельности. Главное — как донести до посетителя суть музейного предмета, рассказать его историю. Возьмём обычную ручку: если просто показать её как экспонат — это одно восприятие. Но если рассказать, что именно этой ручкой был подписан важный исторический документ, предмет обретает совершенно другое звучание, превращается в легенду.
К сожалению, сегодня очень часто экскурсоводы оперируют сухими фактами, чем создают живые, запоминающиеся истории.
— Что думаете о региональной специфике?
— Региональная специфика — парадоксальная история. Мы стали хуже знать собственную территорию. В Кузбассе происходит интересный культурный сдвиг: если раньше регион ассоциировался исключительно с углём и металлургией, то теперь активно ищем и создаём аутентичность, формируем новую культурную мифологию.
У нас есть всё необходимое — главное грамотно это представить. Взять хотя бы природное наследие: рыбы, птицы, звери, которые населяли и населяют территорию Кузбасса. Важно представить это так, чтобы ребёнку было интересно не только посмотреть и изучить, но и вернуться. У нас редкий случай — в музее «Томская писаница» действует зоопарк, пусть небольшой, но он одинаково интересен и детям, и взрослым. А уже ставший негласным символом Кузбасса – пситтакозавр сибирский! Увидеть и изучить настоящего динозавра возможно, как в Кузбасском краеведческом музее, так и на Шестаковском комплексе
— Работа с информацией — основа музейной деятельности. Главное — как донести до посетителя суть музейного предмета, рассказать его историю. Возьмём обычную ручку: если просто показать её как экспонат — это одно восприятие. Но если рассказать, что именно этой ручкой был подписан важный исторический документ, предмет обретает совершенно другое звучание, превращается в легенду.
К сожалению, сегодня очень часто экскурсоводы оперируют сухими фактами, чем создают живые, запоминающиеся истории.
— Что думаете о региональной специфике?
— Региональная специфика — парадоксальная история. Мы стали хуже знать собственную территорию. В Кузбассе происходит интересный культурный сдвиг: если раньше регион ассоциировался исключительно с углём и металлургией, то теперь активно ищем и создаём аутентичность, формируем новую культурную мифологию.
У нас есть всё необходимое — главное грамотно это представить. Взять хотя бы природное наследие: рыбы, птицы, звери, которые населяли и населяют территорию Кузбасса. Важно представить это так, чтобы ребёнку было интересно не только посмотреть и изучить, но и вернуться. У нас редкий случай — в музее «Томская писаница» действует зоопарк, пусть небольшой, но он одинаково интересен и детям, и взрослым. А уже ставший негласным символом Кузбасса – пситтакозавр сибирский! Увидеть и изучить настоящего динозавра возможно, как в Кузбасском краеведческом музее, так и на Шестаковском комплексе
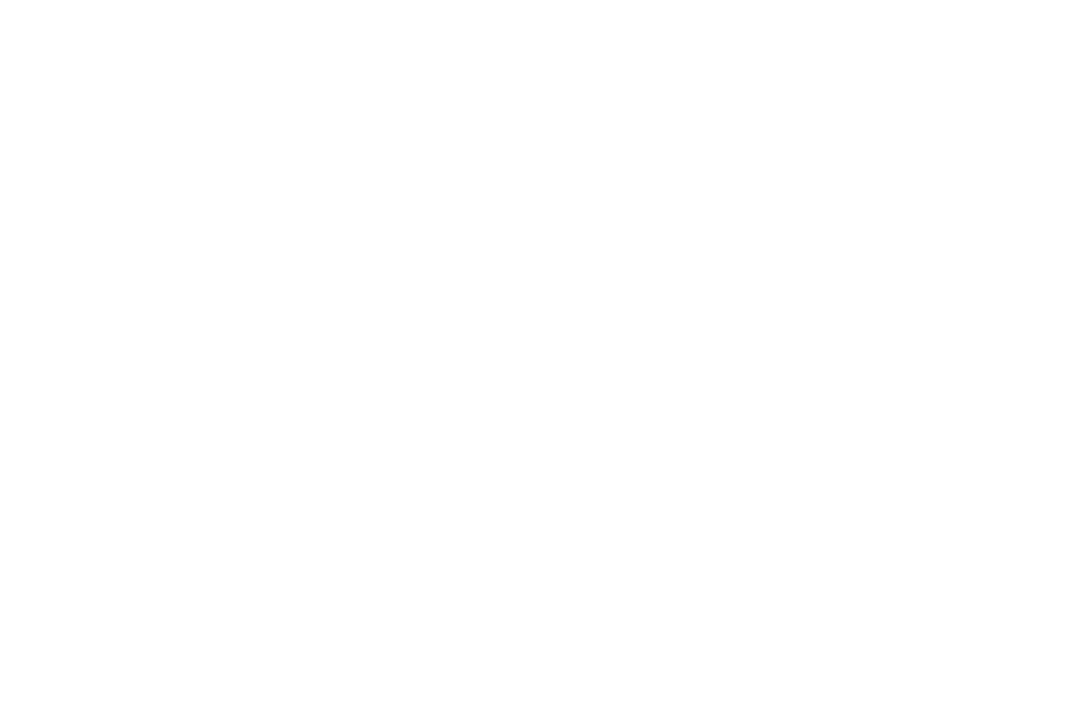
— Как обеспечить баланс между традициями и современными технологиями в музее?
— Рождение экспозиции — это прежде всего концепция музейщиков. Реализация — уже работа дизайнеров, IT-специалистов и музейщиков. Но изначальная идея о том, как сделать экспозицию живой, как «оживить» отдел — это вопросы аттрактивности и интерактивности, которые сегодня обязательны.
Конечно, есть перекосы. Учёные справедливо опасаются, что музей может превратиться в цифровое развлекательное учреждение. Но когда у руля стоят профессионалы, которые понимают суть музейного дела, результат получается выдающийся.
Я не утверждаю, что в музее должны работать специалисты только с профильным музейным образованием, но без них — никуда. Музеям обязательно нужны и историки, и архивисты для работы с фондами, музейными предметами и документами. Иногда критически важны филологи и другие гуманитарии. Каждый в своей нише. Сочетание всех этих знаний и навыков даёт высший пилотаж — от концепции экспозиции до работы экскурсовода.
— Рождение экспозиции — это прежде всего концепция музейщиков. Реализация — уже работа дизайнеров, IT-специалистов и музейщиков. Но изначальная идея о том, как сделать экспозицию живой, как «оживить» отдел — это вопросы аттрактивности и интерактивности, которые сегодня обязательны.
Конечно, есть перекосы. Учёные справедливо опасаются, что музей может превратиться в цифровое развлекательное учреждение. Но когда у руля стоят профессионалы, которые понимают суть музейного дела, результат получается выдающийся.
Я не утверждаю, что в музее должны работать специалисты только с профильным музейным образованием, но без них — никуда. Музеям обязательно нужны и историки, и архивисты для работы с фондами, музейными предметами и документами. Иногда критически важны филологи и другие гуманитарии. Каждый в своей нише. Сочетание всех этих знаний и навыков даёт высший пилотаж — от концепции экспозиции до работы экскурсовода.
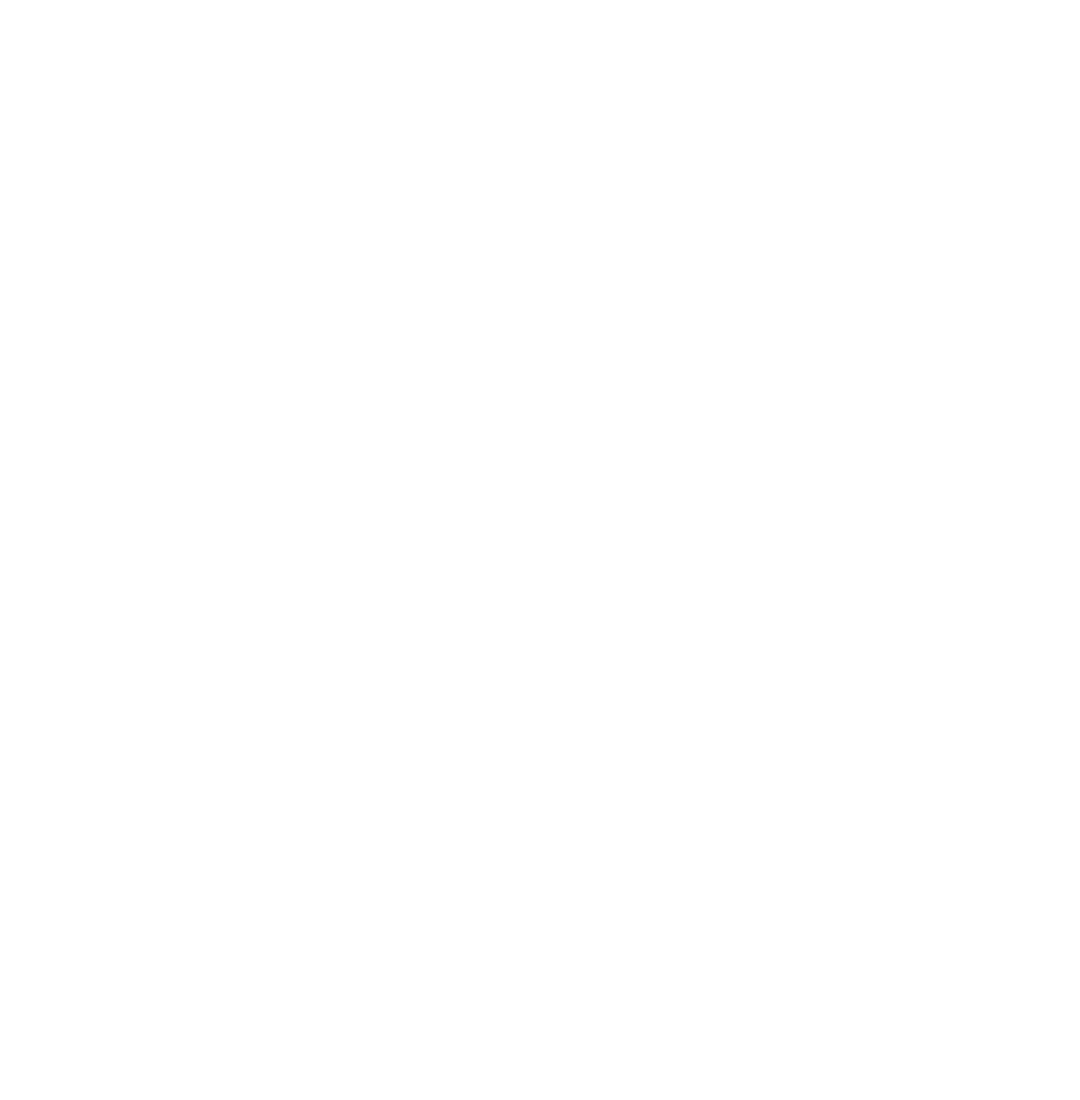
— Как вы относитесь к цифровизации музейного пространства?
— Цифровизация — это реальность. Аудиогиды, QR-коды активно вытесняют живых экскурсоводов, особенно среди молодёжи. Но мы теряем главное — живое человеческое общение.
Людям нашего поколения, 45-50 лет, критически важна коммуникация. Мы с мужем — кошмар для экскурсоводов, потому что задаём тысячу вопросов: «А как это? А что это? А почему именно так?» Нас так воспитали, так учили. Молодёжь предпочитает цифру — зачем общаться, если можно отсканировать QR-код? Но парадокс в том, что они действительно интересуются: статистика просмотров показывает, что контент изучают и анализируют, просто не в момент посещения музея.
— Цифровизация — это реальность. Аудиогиды, QR-коды активно вытесняют живых экскурсоводов, особенно среди молодёжи. Но мы теряем главное — живое человеческое общение.
Людям нашего поколения, 45-50 лет, критически важна коммуникация. Мы с мужем — кошмар для экскурсоводов, потому что задаём тысячу вопросов: «А как это? А что это? А почему именно так?» Нас так воспитали, так учили. Молодёжь предпочитает цифру — зачем общаться, если можно отсканировать QR-код? Но парадокс в том, что они действительно интересуются: статистика просмотров показывает, что контент изучают и анализируют, просто не в момент посещения музея.
Лаборатория инклюзивности: искусство через прикосновение
— Как возникла идея создания лаборатории инклюзивности?
— В 2016 году ректор КемГИК Александр Шунков предложил мне заняться тактильными копиями — тогда это направление только зарождалось в российских музеях. И мы с Анастасией Побожаковой, тогда еще студенткой 2 курса, начали изучение данной темы. Погрузились в техники и технологии создания тактильных копий произведений искусства в музеях. Так позже родилась единственная среди тринадцати вузов культуры России лаборатория по адаптации регионального художественного наследия для людей с нарушением зрительного анализатора.
— В 2016 году ректор КемГИК Александр Шунков предложил мне заняться тактильными копиями — тогда это направление только зарождалось в российских музеях. И мы с Анастасией Побожаковой, тогда еще студенткой 2 курса, начали изучение данной темы. Погрузились в техники и технологии создания тактильных копий произведений искусства в музеях. Так позже родилась единственная среди тринадцати вузов культуры России лаборатория по адаптации регионального художественного наследия для людей с нарушением зрительного анализатора.
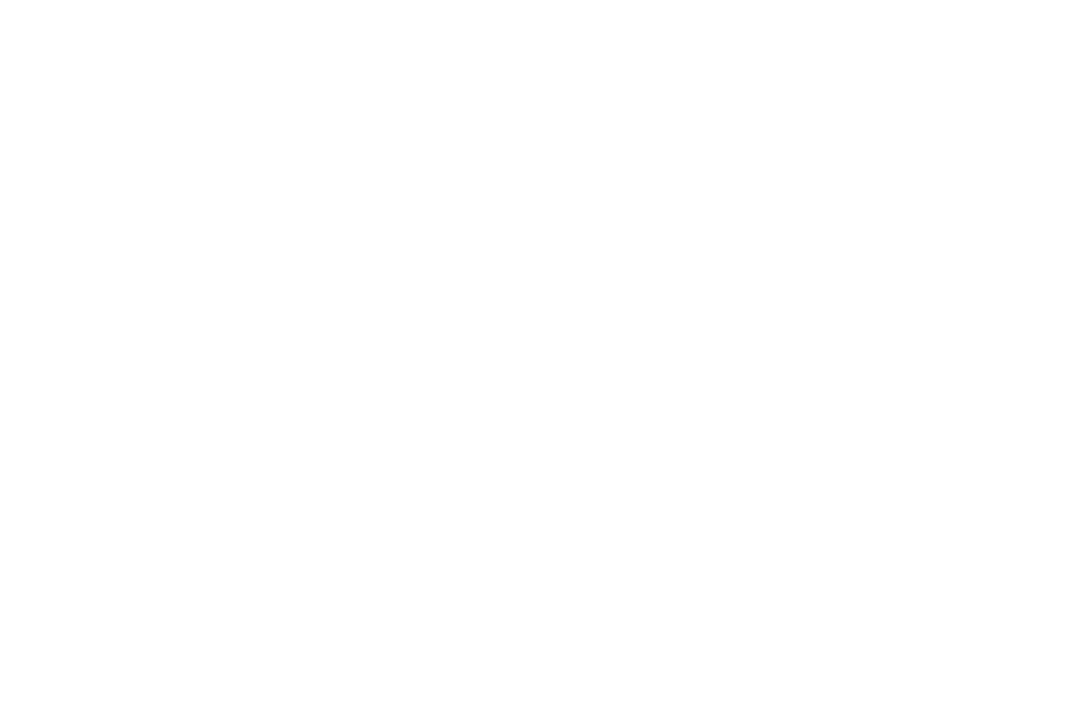
— С чего начались ваши эксперименты с тактильными копиями?
— Первым объектом стала отреставрированная картина Андрея Поздеева «Атракцион». Команда разработала систему передачи цветов через разную высоту рельефа: белый — 2 мм, чёрный — 4 мм. В 2016 году 3D-печать была малодоступной технологией, приходилось ехать в другой район города к единственному владельцу принтера, тщательно подбирая шершавый материал, имитирующий фактуру холста. Это практикоориентированное научное исследование стало выпускной квалификационной работой Анастасии Побожаковой.
— Первым объектом стала отреставрированная картина Андрея Поздеева «Атракцион». Команда разработала систему передачи цветов через разную высоту рельефа: белый — 2 мм, чёрный — 4 мм. В 2016 году 3D-печать была малодоступной технологией, приходилось ехать в другой район города к единственному владельцу принтера, тщательно подбирая шершавый материал, имитирующий фактуру холста. Это практикоориентированное научное исследование стало выпускной квалификационной работой Анастасии Побожаковой.
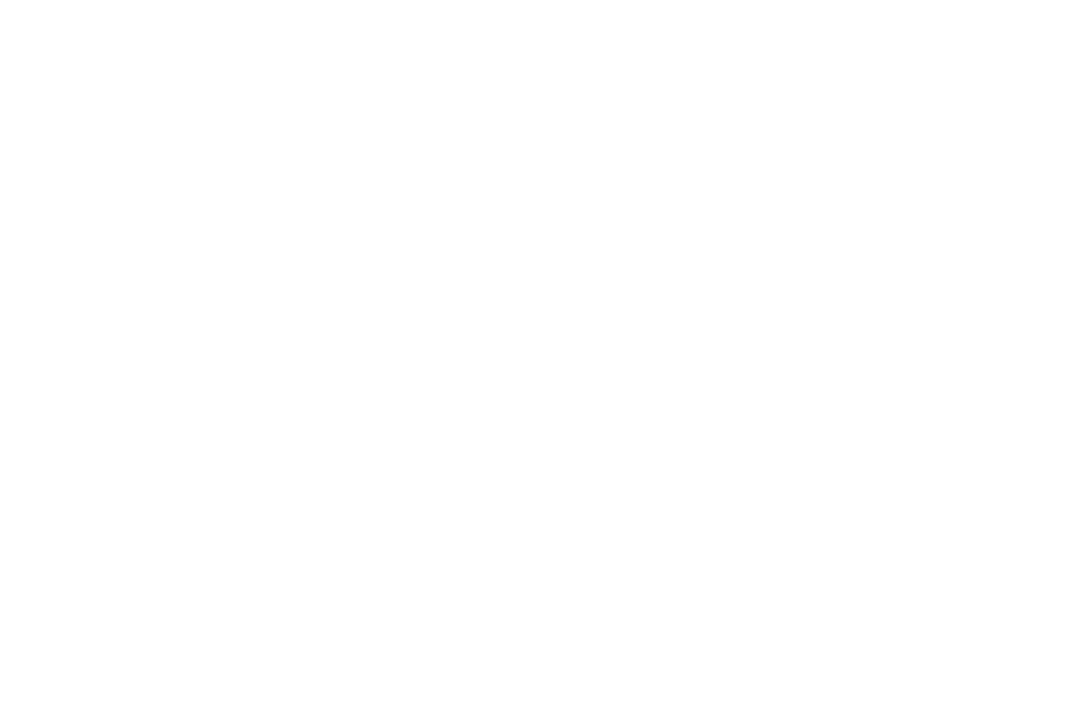
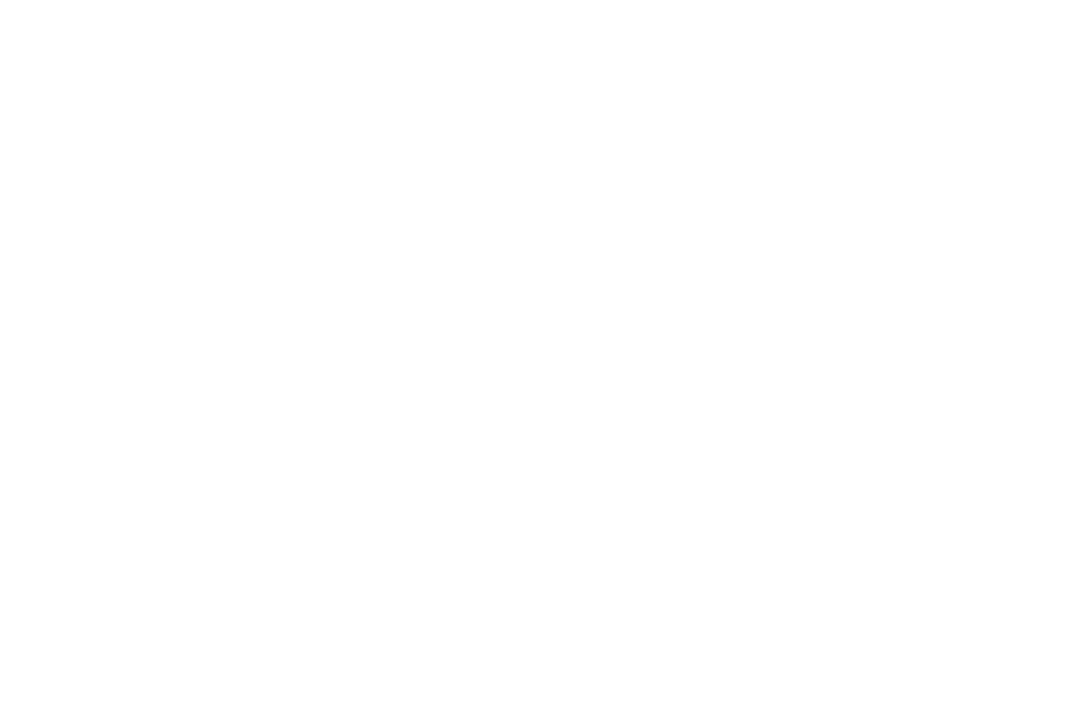
Второй проект — работа Александра Суслова «Натюрморт за круглым столом» — потребовал кропотливой работы с кафедрой декоративно-прикладного искусства. Андрей Викторович Ткаченко создал гипсовую отливку, но сначала пришлось решить философскую задачу: какие элементы «читаются» руками, а какие стоит убрать? Студенты факультета музыкального искусства с нарушением зрения тогда очень помогли нам понять, что мелкие цветы и бабочки невозможно распознать тактильно. Поэтому необходимо было отказаться от этих элементов, сохранив при этом замысел художника. Решением стало тифлокоментирование произведения.
Отдельный квест — поиск парфюма с запахом незабудок, ведь именно эти цветы изобразил художник.
Отдельный квест — поиск парфюма с запахом незабудок, ведь именно эти цветы изобразил художник.
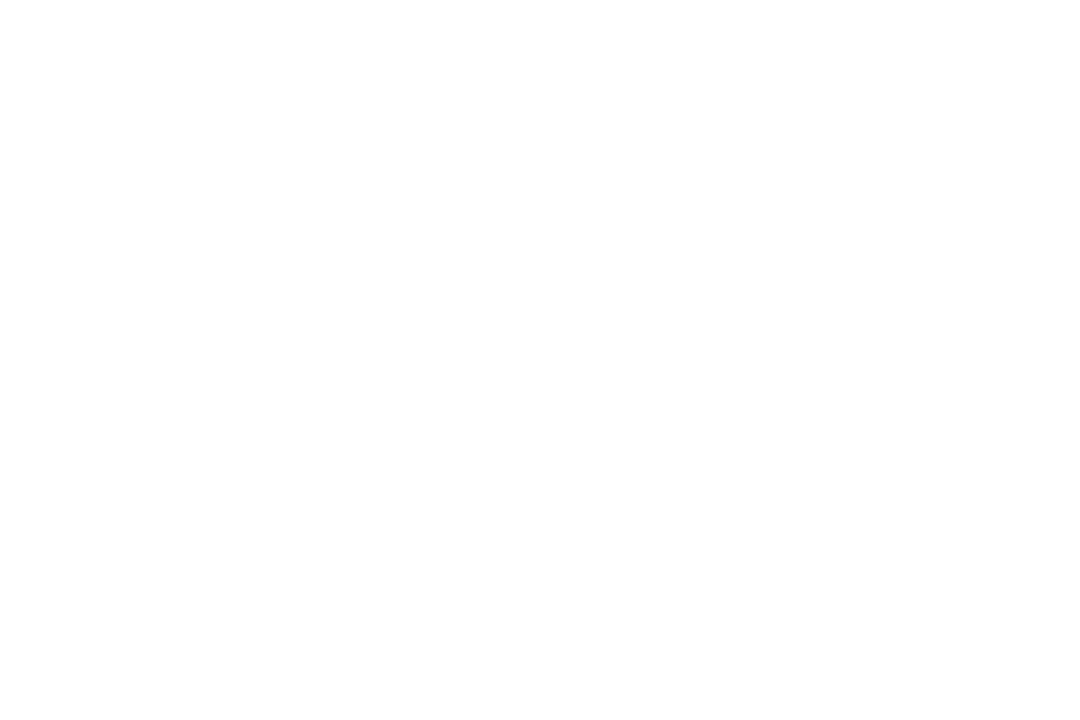
— Как проходил эксперимент с участием автора работы?
— Изучая зарубежный опыт, в командировках, я задалась вопросом: сохраняется ли замысел художника при тактильной интерпретации его произведения? Чтобы это выяснить, я обратилась к кузбасскому художнику Василию Николаевичу Коробейникову с предложением адаптировать его работу. Он сам выбрал для этой работы своё произведение «Лик».
— Изучая зарубежный опыт, в командировках, я задалась вопросом: сохраняется ли замысел художника при тактильной интерпретации его произведения? Чтобы это выяснить, я обратилась к кузбасскому художнику Василию Николаевичу Коробейникову с предложением адаптировать его работу. Он сам выбрал для этой работы своё произведение «Лик».
Художник выбрал картину с минимальным количеством деталей для лучшего тактильного восприятия. Но со сложной концепцией: библейским сюжетом. Команда экспериментировала с тремя техниками: классической гипсовой отливкой, авторской техникой папье-маше преподавателя кафедры декоративно-прикладного искусства Надеждой Ивановной Алёхиной и работой с тканью, с которой нам помогла Людмила Владимировна Миненко.
Василий Николаевич Коробейников лично участвовал в процессе, объясняя, какие элементы важно выделить объёмом. Картина рассказывает о добре и зле, и хотя первоначальный замысел предполагал изображение крови, команда деликатно адаптировала это для тактильного восприятия.
Особое внимание уделили ароматическому сопровождению. На вопрос, чем должна пахнуть картина, художник ответил без колебаний: ладаном.
— Ещё одна техника — работа с тканью — основывалась на серьёзном изучении специальной литературы. В одном из исследований я нашла описание опыта педагога, работавшей с детьми, потерявшими зрение: Гладкую выпуклую поверхность они воспринимали как белый цвет, а бархат — как бордовый или красный.
Правда, эксперимент с тканью не дал ожидаемого результата: люди с нарушением зрения не смогли однозначно считать заложенную информацию.
— Кто помогал в разработке и тестировании тактильных копий?
— Важную поддержку оказал факультет музыкального искусства, предоставив связь со студентами с нарушением зрения, которые помогали тестировать разработки. Ключевым партнёром стала специализированная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих с её профессиональными студиями записи тифлокомментариев — специальных аудиоописаний, где текст интерпретируется особым образом, медленнее обычного, с глубокими пояснениями.
Василий Николаевич Коробейников лично участвовал в процессе, объясняя, какие элементы важно выделить объёмом. Картина рассказывает о добре и зле, и хотя первоначальный замысел предполагал изображение крови, команда деликатно адаптировала это для тактильного восприятия.
Особое внимание уделили ароматическому сопровождению. На вопрос, чем должна пахнуть картина, художник ответил без колебаний: ладаном.
— Ещё одна техника — работа с тканью — основывалась на серьёзном изучении специальной литературы. В одном из исследований я нашла описание опыта педагога, работавшей с детьми, потерявшими зрение: Гладкую выпуклую поверхность они воспринимали как белый цвет, а бархат — как бордовый или красный.
Правда, эксперимент с тканью не дал ожидаемого результата: люди с нарушением зрения не смогли однозначно считать заложенную информацию.
— Кто помогал в разработке и тестировании тактильных копий?
— Важную поддержку оказал факультет музыкального искусства, предоставив связь со студентами с нарушением зрения, которые помогали тестировать разработки. Ключевым партнёром стала специализированная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих с её профессиональными студиями записи тифлокомментариев — специальных аудиоописаний, где текст интерпретируется особым образом, медленнее обычного, с глубокими пояснениями.
Именно сочетание тактильного контакта, ароматической композиции и качественного тифлокомментария даёт тот эффект, когда слабовидящие посетители воспринимают произведение искусства максимально полно.
— Какой была реакция профессионального сообщества на ваши разработки?
— На всероссийском музейном форуме, который состоялся в этом году в КемГИК, тактильные копии произвели фурор. Профессиональные музейщики со всей страны не могли оторваться от экспонатов, открывая для себя новый способ восприятия искусства. Оказалось, что мультисенсорный подход — прикосновение, запах, звук — помогает лучше понять замысел художника даже зрячим людям.
Каждый материал имеет свои особенности восприятия: гипсовые отливки кажутся более холодными и недоступными, но в тёплом помещении они согреваются от рук и становятся приятными на ощупь. Авторская техника папье-маше преподавателя Надежды Ивановны Алёхиной оказалась прочнее гипса и теплее на ощупь.
— Какой была реакция профессионального сообщества на ваши разработки?
— На всероссийском музейном форуме, который состоялся в этом году в КемГИК, тактильные копии произвели фурор. Профессиональные музейщики со всей страны не могли оторваться от экспонатов, открывая для себя новый способ восприятия искусства. Оказалось, что мультисенсорный подход — прикосновение, запах, звук — помогает лучше понять замысел художника даже зрячим людям.
Каждый материал имеет свои особенности восприятия: гипсовые отливки кажутся более холодными и недоступными, но в тёплом помещении они согреваются от рук и становятся приятными на ощупь. Авторская техника папье-маше преподавателя Надежды Ивановны Алёхиной оказалась прочнее гипса и теплее на ощупь.
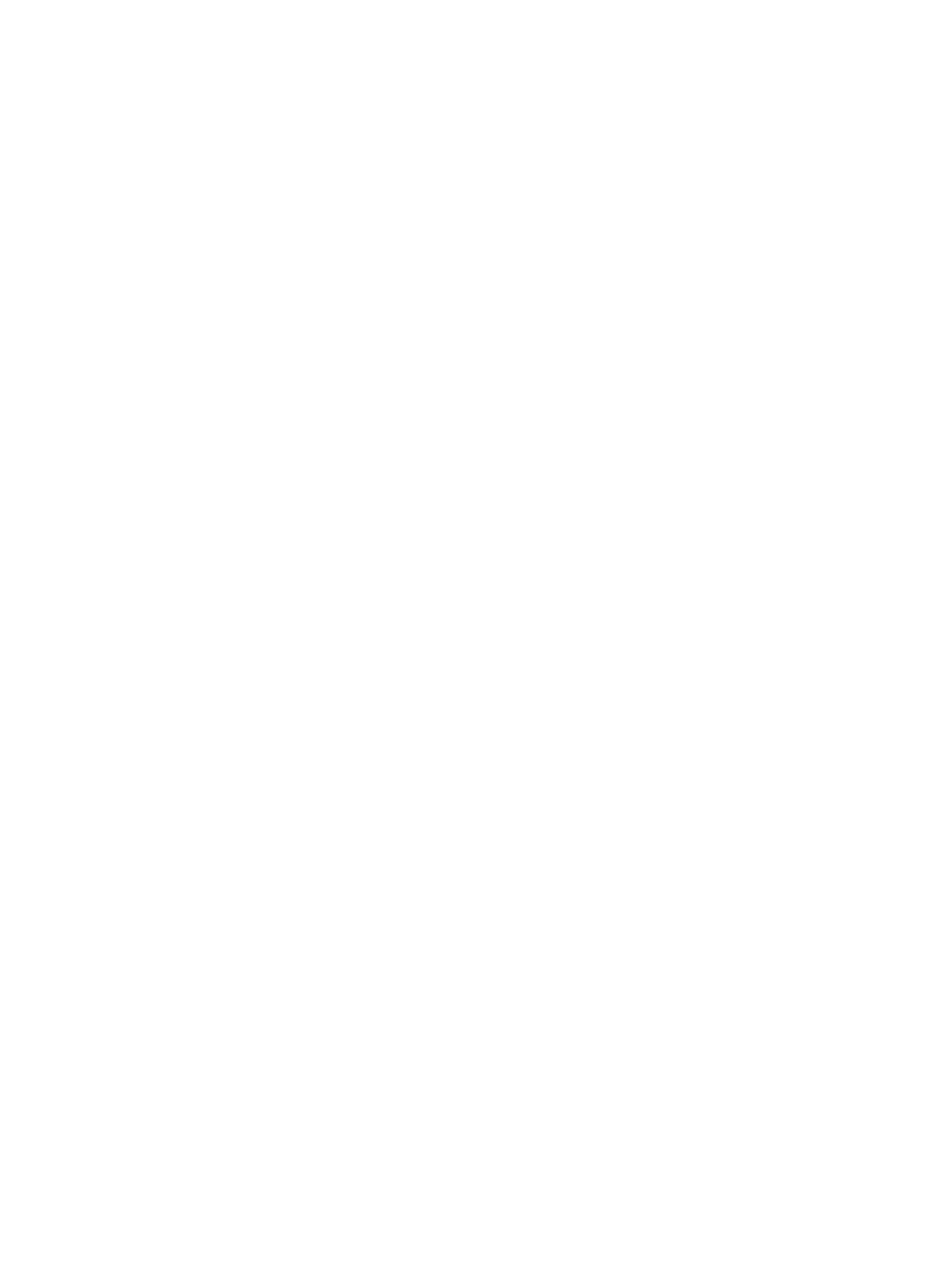
Проекты и сотрудничество
— Есть ли среди музеев Кузбасса те, ко заказывают институту создание тактильных копий?
Первым партнёром стал Новокузнецкий краеведческий музей: для них создали 10 тактильных копий украшений и произведений искусства коренных народов. По музейным стандартам экспозиция для незрячих должна включать минимум три предмета, но новокузнечане превысили требования более чем в три раза.
В реализации этого проекта значительную роль сыграла руководитель лаборатории по адаптации кандидат культурологии Полина Валерьевна Абрамова. Без ее личного вклада в идею, реализацию и отбор предметов этот проект не состоялся бы.
Только кажется, что можно просто отсканировать и напечатать на 3D-принтере музейный предмет. Но этому предшествует очень большая и трудоёмкая работа.
— Вы же делаете теперь и выставочные проекты внутри вуза?
Новый проект посвящён 80-летию Победы — это тактильные копии рисунков кузбасских художников-фронтовиков из коллекции Музея изобразительных искусств Кузбасса. Все материалы берутся из открытых источников и госкаталога, не нарушая авторских прав. Копии выполнены в различных техниках: керамика, 3D-печать. Создаёт копии из керамики преподаватель кафедры ДПИ Александра Косырева, и результат настолько качественен, что сам становится произведением искусства. Копии сделанные с помощью 3D-печати делает студентка 4 курса кафедры музейного дела Каминская Оксана. С гордостью замечу, что Оксана номинант на именную стипендию, которая выплачивается только студентам-музейщиками России имени Ирины Антоновой.
Первым партнёром стал Новокузнецкий краеведческий музей: для них создали 10 тактильных копий украшений и произведений искусства коренных народов. По музейным стандартам экспозиция для незрячих должна включать минимум три предмета, но новокузнечане превысили требования более чем в три раза.
В реализации этого проекта значительную роль сыграла руководитель лаборатории по адаптации кандидат культурологии Полина Валерьевна Абрамова. Без ее личного вклада в идею, реализацию и отбор предметов этот проект не состоялся бы.
Только кажется, что можно просто отсканировать и напечатать на 3D-принтере музейный предмет. Но этому предшествует очень большая и трудоёмкая работа.
— Вы же делаете теперь и выставочные проекты внутри вуза?
Новый проект посвящён 80-летию Победы — это тактильные копии рисунков кузбасских художников-фронтовиков из коллекции Музея изобразительных искусств Кузбасса. Все материалы берутся из открытых источников и госкаталога, не нарушая авторских прав. Копии выполнены в различных техниках: керамика, 3D-печать. Создаёт копии из керамики преподаватель кафедры ДПИ Александра Косырева, и результат настолько качественен, что сам становится произведением искусства. Копии сделанные с помощью 3D-печати делает студентка 4 курса кафедры музейного дела Каминская Оксана. С гордостью замечу, что Оксана номинант на именную стипендию, которая выплачивается только студентам-музейщиками России имени Ирины Антоновой.
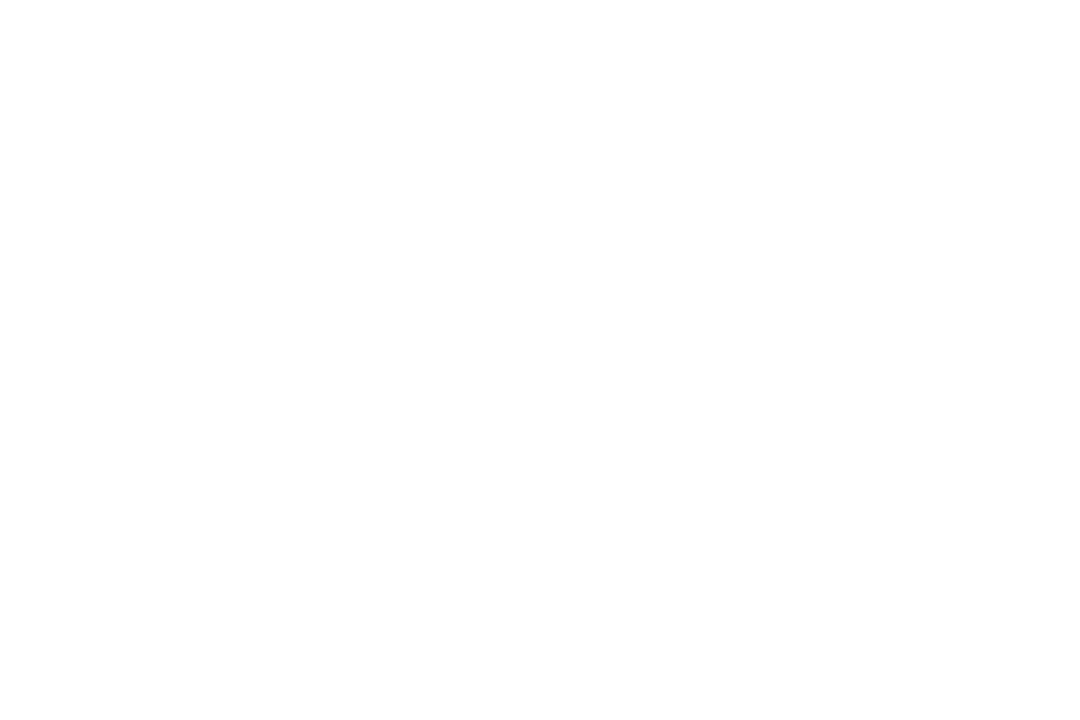
— Как обстоит практика работы с тактильными копиями в музеях?
— К сожалению, во многих музеях тактильные копии создаются по принципу «как сделали, так сделали». Существуют технологии с прозрачным пластиком, который накладывают на репродукции, а некоторые музеи даже наносят рельеф прямо на подлинники.
Я убеждена: качественная адаптация художественного наследия — это дорогое искусство, требующее профессиональных знаний техники и технологии. Дилетантский подход недопустим.
— К сожалению, во многих музеях тактильные копии создаются по принципу «как сделали, так сделали». Существуют технологии с прозрачным пластиком, который накладывают на репродукции, а некоторые музеи даже наносят рельеф прямо на подлинники.
Я убеждена: качественная адаптация художественного наследия — это дорогое искусство, требующее профессиональных знаний техники и технологии. Дилетантский подход недопустим.
Музей Андрея Панина: уникальный опыт вуза
— Расскажите немного о музее Андрея Панина в КемГИК
— В 2014 году в КемГИК появился единственный среди российских вузов культуры музей, посвящённый выпускнику — актёру Андрею Панину. Самое удивительное открытие — оказалось, что Панин был ещё и художником! Актриса Наталья Рогожкина, вдова художника, передала нам портфель с его личными вещами, и там мы обнаружили зарисовки на обороте страниц сценария «Шерлока Холмса». Он рисовал, пока учил роль! И это потрясающе! Мы можем представить, вообразить творческий процесс работы актера над своей ролью в момент съемок художественного фильма.
— В 2014 году в КемГИК появился единственный среди российских вузов культуры музей, посвящённый выпускнику — актёру Андрею Панину. Самое удивительное открытие — оказалось, что Панин был ещё и художником! Актриса Наталья Рогожкина, вдова художника, передала нам портфель с его личными вещами, и там мы обнаружили зарисовки на обороте страниц сценария «Шерлока Холмса». Он рисовал, пока учил роль! И это потрясающе! Мы можем представить, вообразить творческий процесс работы актера над своей ролью в момент съемок художественного фильма.
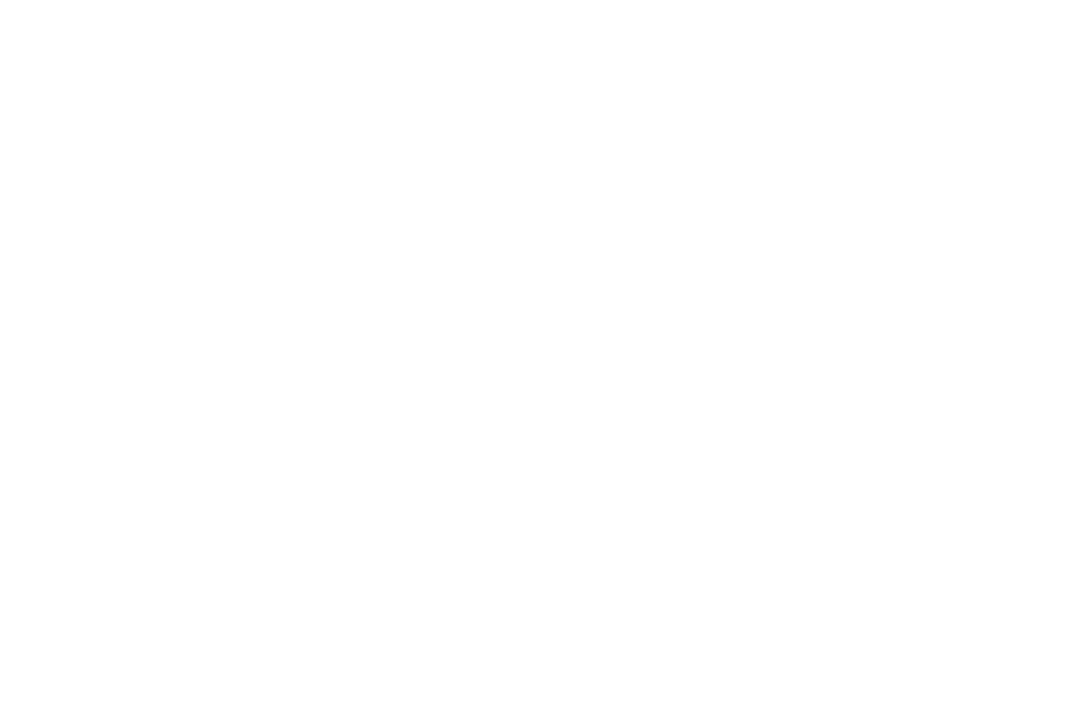
Люди даже не подозревали о его художественном таланте. Все рисунки объединены темой маски, театральности, клоунады — это прямо связано с его первой ролью Рыжего клоуна в спектакле «Смертельный номер», который недавно возобновил в Театре Олега Табакова Владимир Машков.
— Как вы определите значимость этого музея для вуза?
— Это уникальный проект с точки зрения музейных технологий. Мы используем дополненную реальность — студенты могут посмотреть фильмы с участием Андрея Панина, разобрать их с точки зрения постановки, изучить кинематограф. У нас есть даже подлинная декорация со съёмок известного телесериала 2000-х годов «Бригада».
— Это уникальный проект с точки зрения музейных технологий. Мы используем дополненную реальность — студенты могут посмотреть фильмы с участием Андрея Панина, разобрать их с точки зрения постановки, изучить кинематограф. У нас есть даже подлинная декорация со съёмок известного телесериала 2000-х годов «Бригада».
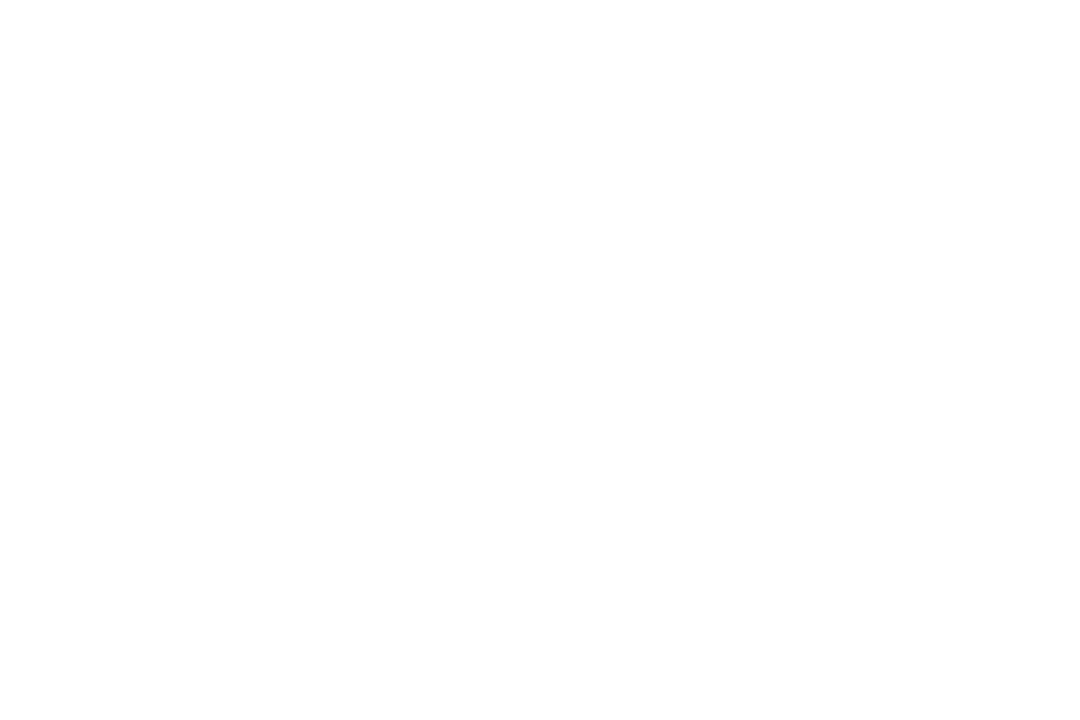
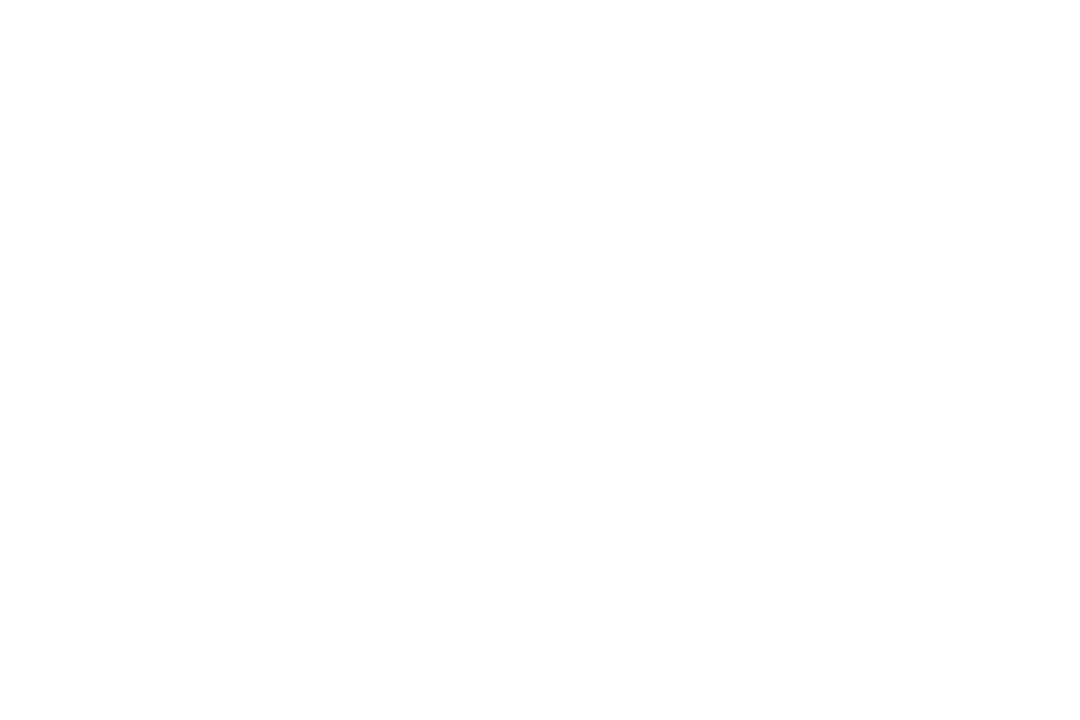
Для института это огромная гордость и образовательный ресурс. Каждый первокурсник обязательно посещает музей. Это показывает студентам, что их альма-матер выпускает не просто специалистов, а ярких, многогранных личностей. Концепция персонального музея выпускника оказалась уникальной среди всех вузов культуры России.
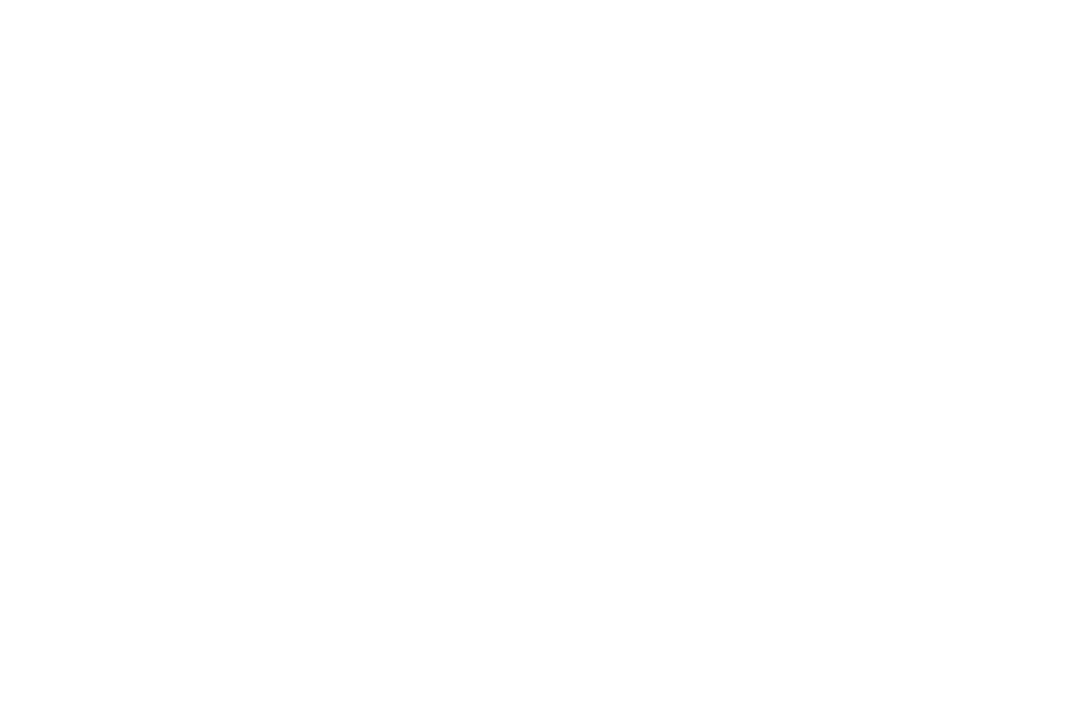
Вот если ты прочитал журнал «Здоровье»...
— У вас есть принципиальная позиция по поводу профессиональных стандартов?
— Меня всегда волновала эта проблема. Если человек прочитал журнал «Здоровье», послушал Елену Малышеву, посоветовался с бабушкой, он может считать себя знатоком медицины? Участковым фельдшером в самую маленькую деревню его не возьмут.
Так почему в музеях зачастую работают люди без профильного образования? Под профильным музейным образованием я понимаю четыре основных направления: историки — без них никуда; музейщики — знающие технологии и направления музейной деятельности; архивисты — незаменимые для фондовой работы; специалисты по туризму. Хранители — это синтез музейщиков и архивистов.
Из всех направлений в рамках укрупненной группы направлений подготовки «Культуроведение и социокультурные проекты» профессиональные стандарты существуют только для музейщиков: хранитель, специалист по учёту музейных предметов, экскурсовод.
С экскурсоводами интересная ситуация — есть тонкая грань между музейным экскурсоводом и «внешним», работающим «в поле». У музейного экскурсовода одни требования — он сосредоточен на культурно-образовательной деятельности, работе с предметом. У «полевого» — совершенно другие, связанные с безопасностью и знанием маршрутов. Но реальность такова, что в музеях иногда работают даже кондитеры — и это серьёзная проблема.
— Меня всегда волновала эта проблема. Если человек прочитал журнал «Здоровье», послушал Елену Малышеву, посоветовался с бабушкой, он может считать себя знатоком медицины? Участковым фельдшером в самую маленькую деревню его не возьмут.
Так почему в музеях зачастую работают люди без профильного образования? Под профильным музейным образованием я понимаю четыре основных направления: историки — без них никуда; музейщики — знающие технологии и направления музейной деятельности; архивисты — незаменимые для фондовой работы; специалисты по туризму. Хранители — это синтез музейщиков и архивистов.
Из всех направлений в рамках укрупненной группы направлений подготовки «Культуроведение и социокультурные проекты» профессиональные стандарты существуют только для музейщиков: хранитель, специалист по учёту музейных предметов, экскурсовод.
С экскурсоводами интересная ситуация — есть тонкая грань между музейным экскурсоводом и «внешним», работающим «в поле». У музейного экскурсовода одни требования — он сосредоточен на культурно-образовательной деятельности, работе с предметом. У «полевого» — совершенно другие, связанные с безопасностью и знанием маршрутов. Но реальность такова, что в музеях иногда работают даже кондитеры — и это серьёзная проблема.
Мы готовим универсальных музейных солдат
— Каких специалистов готовит ваша кафедра?
— Наше образование крайне важно и востребовано. Наши выпускники работают во всех 43 государственных и муниципальных музеях Кемеровской области. Мы готовим универсального музейного специалиста, способного работать по всем основным направлениям музейной деятельности. Углубление профиля происходит уже на рабочем месте или в магистратуре.
— Насколько популярна магистратура?
— Магистратура сегодня чрезвычайно востребована. Особенно радует, что среди абитуриентов — директора муниципальных музеев. В рамках магистерской программы наши магистранты пишут диссертации, связанные с конкретными проектами для музеев. Это не теоретические «воздушные замки», а проекты с реальным воплощением.
Яркий пример — недавно защищённая диссертация о создании краеведческого музея в поселке городского типа Яшкино, единственном муниципальном округе без такого музея. Автор — начальник управления культуры, её проект уже реализуется: выделено помещение, собирается коллекция.
— Наше образование крайне важно и востребовано. Наши выпускники работают во всех 43 государственных и муниципальных музеях Кемеровской области. Мы готовим универсального музейного специалиста, способного работать по всем основным направлениям музейной деятельности. Углубление профиля происходит уже на рабочем месте или в магистратуре.
— Насколько популярна магистратура?
— Магистратура сегодня чрезвычайно востребована. Особенно радует, что среди абитуриентов — директора муниципальных музеев. В рамках магистерской программы наши магистранты пишут диссертации, связанные с конкретными проектами для музеев. Это не теоретические «воздушные замки», а проекты с реальным воплощением.
Яркий пример — недавно защищённая диссертация о создании краеведческого музея в поселке городского типа Яшкино, единственном муниципальном округе без такого музея. Автор — начальник управления культуры, её проект уже реализуется: выделено помещение, собирается коллекция.
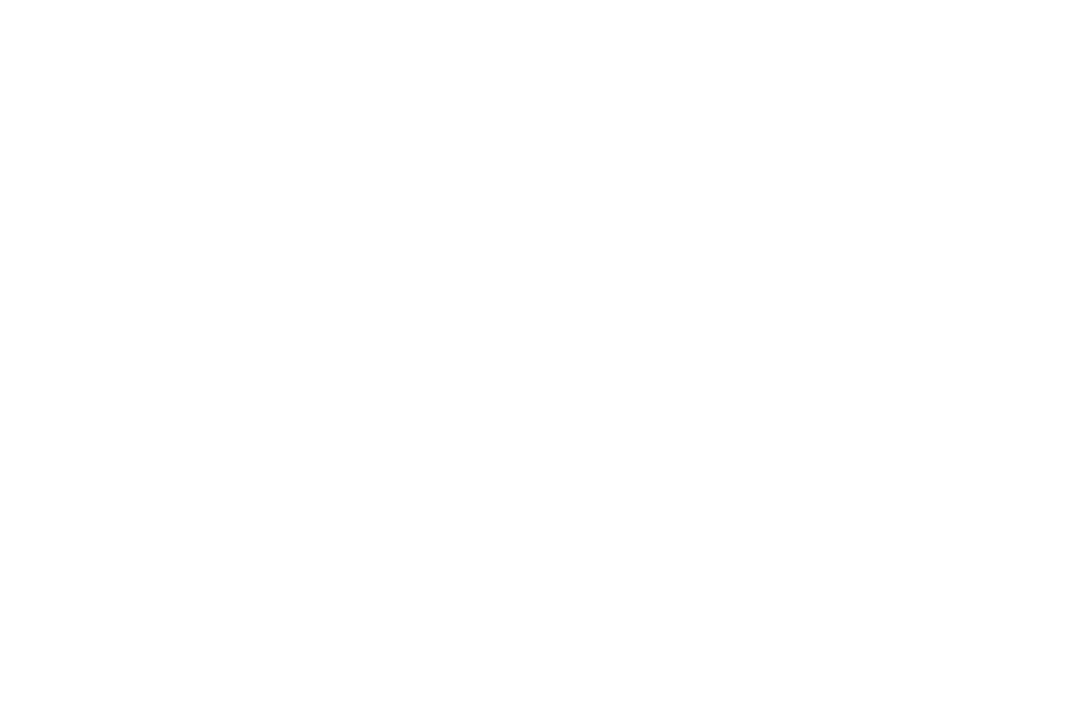
Взгляд в будущее: сохраняя традиции
— Какие планы у кафедры на будущее?
— Очень надеюсь, что осуществится наша идея с Русским музеем — создание профильной квалификации для студентов, которые будут работать в его филиале в Кемерове. Сложно говорить о конкретных сроках, но надежды не теряю. Верю, что обязательно откроется диссертационный совет на базе КемГИК по нашей специальности, чтобы была возможность защищать кандидатские и докторские диссертации
— Какой принцип считаете основой музейной деятельности?
— Главное помнить: музей — это прежде всего фонды. Без фондов не может быть музея. Сегодня часто наблюдаем перекос — музеем называют всё, что угодно, кроме собственно музея.
— Кто ваши основные партнёры?
— Наши стратегические партнёры — ведущие государственные музеи Кузбасса. «Томская писаница» стала первой базой практики с момента открытия кафедры. Активно сотрудничаем с Кузбасским краеведческим музеем, Музеем изобразительных искусств Кузбасса, Кузбасским центром искусств. Многие наши выпускники работают в этих учреждениях. Без их помощи и поддержки мы не сможем подготовить высококлассных музейных специалистов! Но не могу не отметить и муниципальные музеи Кузбасса: «Чолкой», Анжеро-Судженский, Промышленовский и другие.
— Если подводить итоги — что такое кафедра музейного дела КемГИК сегодня?
— За 25 лет ни разу не пожалела, что моя профессиональная жизнь сложилась именно так. Кафедра музейного дела КемГИК — это не просто образовательное подразделение, а живая лаборатория новых подходов к сохранению и презентации культурного наследия. Мы готовим специалистов, способных сделать музей открытым, интересным пространством для всех.
— Очень надеюсь, что осуществится наша идея с Русским музеем — создание профильной квалификации для студентов, которые будут работать в его филиале в Кемерове. Сложно говорить о конкретных сроках, но надежды не теряю. Верю, что обязательно откроется диссертационный совет на базе КемГИК по нашей специальности, чтобы была возможность защищать кандидатские и докторские диссертации
— Какой принцип считаете основой музейной деятельности?
— Главное помнить: музей — это прежде всего фонды. Без фондов не может быть музея. Сегодня часто наблюдаем перекос — музеем называют всё, что угодно, кроме собственно музея.
— Кто ваши основные партнёры?
— Наши стратегические партнёры — ведущие государственные музеи Кузбасса. «Томская писаница» стала первой базой практики с момента открытия кафедры. Активно сотрудничаем с Кузбасским краеведческим музеем, Музеем изобразительных искусств Кузбасса, Кузбасским центром искусств. Многие наши выпускники работают в этих учреждениях. Без их помощи и поддержки мы не сможем подготовить высококлассных музейных специалистов! Но не могу не отметить и муниципальные музеи Кузбасса: «Чолкой», Анжеро-Судженский, Промышленовский и другие.
— Если подводить итоги — что такое кафедра музейного дела КемГИК сегодня?
— За 25 лет ни разу не пожалела, что моя профессиональная жизнь сложилась именно так. Кафедра музейного дела КемГИК — это не просто образовательное подразделение, а живая лаборатория новых подходов к сохранению и презентации культурного наследия. Мы готовим специалистов, способных сделать музей открытым, интересным пространством для всех.
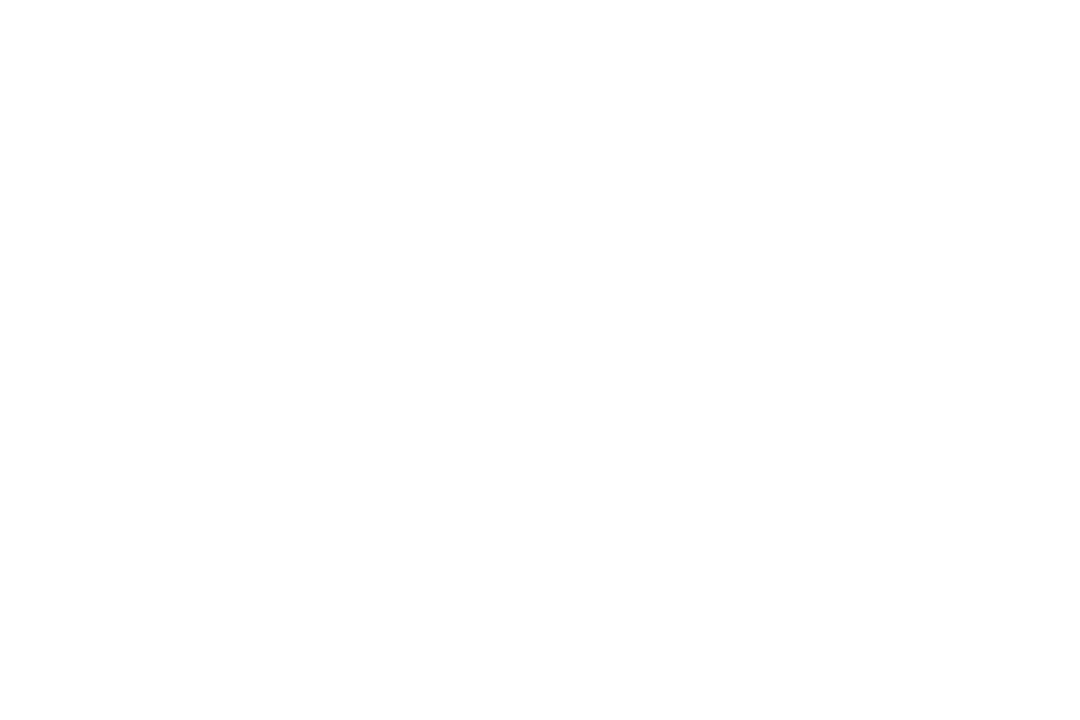
Дарья Родионова — профессионал, который на сто процентов заряжен на дело. Её энергия, знания, любопытство к жизни и к разным сторонам профессиональной деятельности превращают и её саму в "универсального музейного солдата", который задаёт тон студентам, показывая, как может быть интересно жить, если ты полностью вовлечен в любимую профессию.
Автор идеи проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Евгений Лехнер/из личного архива Дарьи Родионовой/из открытых источников
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Евгений Лехнер/из личного архива Дарьи Родионовой/из открытых источников