Наша жизнь — это текст
Сегодня мы представляем вашему внимание заключительное интервью «Территории культуры» с автором идеи проекта, ректором КемГИК, Александром Шунковым.
Почему всё в нашей жизни — текст, а КемГИК — машина по созданию смыслов и ценностей; как управлять командой, в который каждый – личность; о пользе социальных сетей; развитии искусственного интеллекта в системе образования и еще о многом другом мы поговорили с ректором.
Почему всё в нашей жизни — текст, а КемГИК — машина по созданию смыслов и ценностей; как управлять командой, в который каждый – личность; о пользе социальных сетей; развитии искусственного интеллекта в системе образования и еще о многом другом мы поговорили с ректором.
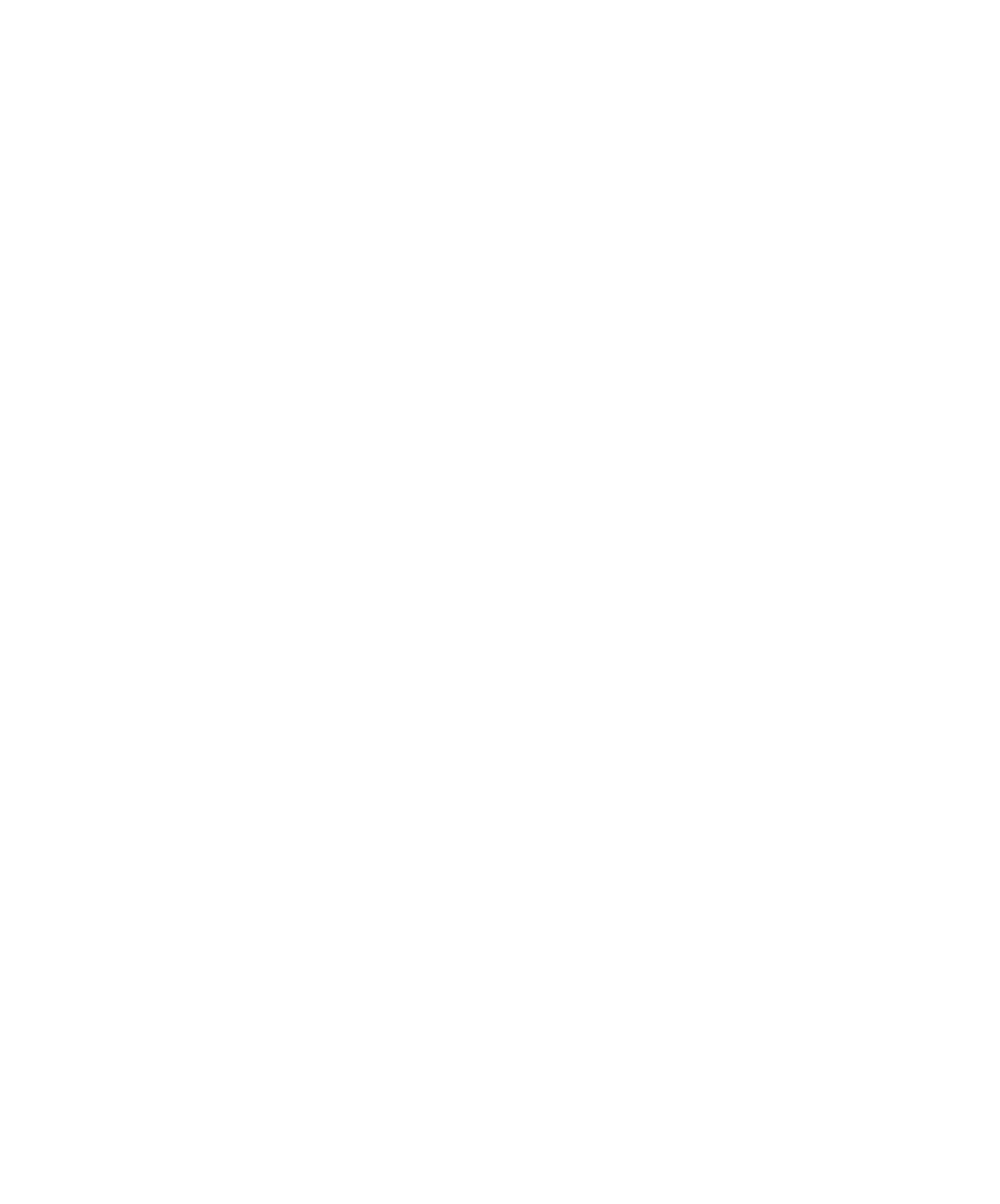
— Как Вы пришли в сферу культуры?
— Знаете, у меня как у человека, имеющего базовое филологическое образование, всегда возникает внутренний вопрос: «Когда люди идут на интервью, чего они сами хотят? Как себя видят в этой ситуации? Как их будут воспринимать после высказанных идей и рассуждений»? И если честно, то я всегда немного в смятении, когда получаю предложения на интервью. Надо понимать: если ты что-то говоришь публично, то это уже претензия на особое слово, по которому тебя будут оценивать не как частное лицо, а как человека, претендующего на определённую роль, имеющего право говорить на большую аудиторию. И вот тут возникает дилемма: а насколько ты соответствуешь той роли, которую либо придумал для себя сам, либо на тебя это возложено — глаголом «жечь сердца людей», как у Пушкина.
Про культуру. Даже не могу сказать, как и когда это произошло. Может быть, достаточно случайно, как и у многих в жизни. Если вспомнить опять же Александра Сергеевича: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, … И Случай, бог изобретатель».
Базовое образование, о котором я ни разу не пожалел, — это филологическое образование, история русской литературы и литературоведение. Оно позволяет на протяжении всей жизни, начиная с момента окончания вуза в 1994 году, видеть себя и мир намного объёмнее. Как? А потому что текст окружает человека везде, всегда и во всём. И текст не только словесный. Мир, в котором человек живёт, тоже своего рода текст, нарратив.
Всё — слово! Всё движется, читается, воспринимается, интерпретируется, представляется в тех или иных образах. Всё бытие человека — это текст культуры, с которым мы постоянно вступаем в диалог.
Сейчас понимаю, что 90-е годы XX века были одними из самых сложных в экономическом отношении, когда остро стояла проблема физического выживания. Но одновременно это были одни из самых интересных лет в плане открытия нового, чего раньше невозможно было открыть — через литературу, выставки, спектакли. Для меня это было постепенное погружение в пространство культуры, как неотъемлемой части любой сферы жизни.
— Почему филологическое образование?
— Сам не знаю. Я с восьмого класса средней школы точно знал, что поступлю именно на филологический факультет. Помню, как в одной из областных газет летом 1985 года (мне было 14 лет, а вот название газеты я не помню, скорее всего это был «Комсомолец Кузбасса») я прочитал, что КемГУ проводит набор абитуриентов на подготовительные курсы филологического факультета и разместил программу вступительных испытаний. Я это все прочитал и решил: половину из того, что надо знать по школьной программе, я уже знаю, а чего не знаю, еще прочитаю за два года (9 – 10 классы). И все, с того времени у меня больше не было проблемы с выбором.
— Любили читать?
— Да. Может быть, сказывалось влияние педагога именно до 9 класса. А вот когда я сказал в 10 классе, что буду поступать на филологический факультет университета, одна из моих учительниц средней школы иронично посмеялась: «Ну вот, все будут людьми, а ты будешь учить деток литературе, читать им «Тучки небесные, вечные странники». Потом она одёрнулась, наверное, все-таки поняла, что говорит что-то не совсем корректное. Но если сейчас смотреть, кто кем стал — абсолютно не жалею.
С тех пор этот выбор служения литературе, культуре сохраняется. Может, случай, может, предопределённость. Каких-то специальных событий, которые подтолкнули бы к решению, не было кроме тех, о которых уже рассказал. Поступил. Понравилось.
— Знаете, у меня как у человека, имеющего базовое филологическое образование, всегда возникает внутренний вопрос: «Когда люди идут на интервью, чего они сами хотят? Как себя видят в этой ситуации? Как их будут воспринимать после высказанных идей и рассуждений»? И если честно, то я всегда немного в смятении, когда получаю предложения на интервью. Надо понимать: если ты что-то говоришь публично, то это уже претензия на особое слово, по которому тебя будут оценивать не как частное лицо, а как человека, претендующего на определённую роль, имеющего право говорить на большую аудиторию. И вот тут возникает дилемма: а насколько ты соответствуешь той роли, которую либо придумал для себя сам, либо на тебя это возложено — глаголом «жечь сердца людей», как у Пушкина.
Про культуру. Даже не могу сказать, как и когда это произошло. Может быть, достаточно случайно, как и у многих в жизни. Если вспомнить опять же Александра Сергеевича: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, … И Случай, бог изобретатель».
Базовое образование, о котором я ни разу не пожалел, — это филологическое образование, история русской литературы и литературоведение. Оно позволяет на протяжении всей жизни, начиная с момента окончания вуза в 1994 году, видеть себя и мир намного объёмнее. Как? А потому что текст окружает человека везде, всегда и во всём. И текст не только словесный. Мир, в котором человек живёт, тоже своего рода текст, нарратив.
Всё — слово! Всё движется, читается, воспринимается, интерпретируется, представляется в тех или иных образах. Всё бытие человека — это текст культуры, с которым мы постоянно вступаем в диалог.
Сейчас понимаю, что 90-е годы XX века были одними из самых сложных в экономическом отношении, когда остро стояла проблема физического выживания. Но одновременно это были одни из самых интересных лет в плане открытия нового, чего раньше невозможно было открыть — через литературу, выставки, спектакли. Для меня это было постепенное погружение в пространство культуры, как неотъемлемой части любой сферы жизни.
— Почему филологическое образование?
— Сам не знаю. Я с восьмого класса средней школы точно знал, что поступлю именно на филологический факультет. Помню, как в одной из областных газет летом 1985 года (мне было 14 лет, а вот название газеты я не помню, скорее всего это был «Комсомолец Кузбасса») я прочитал, что КемГУ проводит набор абитуриентов на подготовительные курсы филологического факультета и разместил программу вступительных испытаний. Я это все прочитал и решил: половину из того, что надо знать по школьной программе, я уже знаю, а чего не знаю, еще прочитаю за два года (9 – 10 классы). И все, с того времени у меня больше не было проблемы с выбором.
— Любили читать?
— Да. Может быть, сказывалось влияние педагога именно до 9 класса. А вот когда я сказал в 10 классе, что буду поступать на филологический факультет университета, одна из моих учительниц средней школы иронично посмеялась: «Ну вот, все будут людьми, а ты будешь учить деток литературе, читать им «Тучки небесные, вечные странники». Потом она одёрнулась, наверное, все-таки поняла, что говорит что-то не совсем корректное. Но если сейчас смотреть, кто кем стал — абсолютно не жалею.
С тех пор этот выбор служения литературе, культуре сохраняется. Может, случай, может, предопределённость. Каких-то специальных событий, которые подтолкнули бы к решению, не было кроме тех, о которых уже рассказал. Поступил. Понравилось.
— А деток литературе учить получилось?
— Получилось, конечно. Педагогический стаж тоже есть в моём профессиональном багаже. После окончания вуза параллельно работал на факультете филологии и журналистики Кемеровского государственного университета, строил карьеру вузовского преподавателя-исследователя. И работал учителем литературы в 5-7 классах 41-й гимназии города Кемерово. Кстати, некоторые из моих учеников до сих пор со мной в общении.
— Понравилось?
— Это был хороший опыт. Тогда действовала экспериментальная программа по литературе для среднего звена общеобразовательной школы, которую специально разработали преподаватели факультета филологии и журналистики КемГУ Татьяна Дмитриевна Красюк и Анатолий Васильевич Ставицкий. В 90-е годы было позволено многое (в хорошем смысле). Было позволено экспериментировать с литературным образованием в школе — жёстких стандартов не было. Программа заключалась в том, как научить ребёнка в средней школе, начиная с пятого класса, прочитывать и воспринимать текст, понимать смыслы произведений, которые порой были очень сложны, — от античности до современного периода отечественной литературы.
— Получилось, конечно. Педагогический стаж тоже есть в моём профессиональном багаже. После окончания вуза параллельно работал на факультете филологии и журналистики Кемеровского государственного университета, строил карьеру вузовского преподавателя-исследователя. И работал учителем литературы в 5-7 классах 41-й гимназии города Кемерово. Кстати, некоторые из моих учеников до сих пор со мной в общении.
— Понравилось?
— Это был хороший опыт. Тогда действовала экспериментальная программа по литературе для среднего звена общеобразовательной школы, которую специально разработали преподаватели факультета филологии и журналистики КемГУ Татьяна Дмитриевна Красюк и Анатолий Васильевич Ставицкий. В 90-е годы было позволено многое (в хорошем смысле). Было позволено экспериментировать с литературным образованием в школе — жёстких стандартов не было. Программа заключалась в том, как научить ребёнка в средней школе, начиная с пятого класса, прочитывать и воспринимать текст, понимать смыслы произведений, которые порой были очень сложны, — от античности до современного периода отечественной литературы.
—Долго трудились в школе?
— В 41-й гимназии это было три года, до поступления в аспирантуру. Надо было работать — дополнительный заработок был всегда необходим. Потом аспирантура, и аспирантом тоже подрабатывал в школе. Своим учительским опытом я дорожу. Многие открытия для самого себя, которые затем стали открытиями в области понимания или интерпретации сюжетов классических произведений, были сделаны именно на уроках с детьми. Это была школа — в диалоге с мыслящими детьми я брал материал на заметку для научных публикаций.
Так, например, в конце 90-х годов мной впервые была предложена совершенно иная интерпретация «Грозы» Островского. Доклад был прочитан в Институте филологии СО РАН (г. Новосибирск), а затем опубликована статья в серьезном научном издании.
— Как выбрали путь именно преподавателя-исследователя?
— Те открытия, аспирантские доклады по истории отечественной словесности, многие были сделаны в процессе преподавания литературы в школе. Это вполне объяснимо и объективно. Литературное образование — одно из проблемных направлений, которое всегда существовало в отечественной педагогике.
Дискуссии вокруг того, что должен читать ребёнок в школе, какой перечень произведений школа должна давать, возникали постоянно. Я говорю: «Россия всегда позиционировала себя как литературоцентричное государство, где литература — не просто чтение и пересказ. Текст формирует мышление ребёнка и человека. И от того, что он читает, как читает, с кем читает и как воспринимает и интерпретирует прочитанное, во многом зависит умонастроение целой нации».
— Согласна. Хорошо, тогда движемся к институту культуры…
— Институт культуры оказался на жизненном повороте опять же случайно, после окончания аспирантуры в Новосибирске, в Институте филологии СО РАН. Естественно, я вернулся на кафедру фольклора и русской литературы Кемеровского университета. Ничего не предвещало: коллектив кафедры ждал, декан факультета Евгений Анатольевич Сурков ожидал возвращения, была определена учебная нагрузка. Это было само собой разумеющееся: отучился и вернулся. Траектория пути прямая и ясная.
Но поступил звонок из института культуры. Заведующая кафедрой литературы — такая кафедра в КемГИК всегда была, только по-разному называлась — Людмила Фёдоровна Перминова пригласила работать на кафедру. Я почему-то принял это приглашение. Что меня тогда подтолкнуло на этот поступок, не могу сказать. А на родном факультете разгорелся скандал. Евгений Анатольевич Сурков сурово сказал: «Я этого не допущу!» Конечно, это были просто эмоции.
— В 41-й гимназии это было три года, до поступления в аспирантуру. Надо было работать — дополнительный заработок был всегда необходим. Потом аспирантура, и аспирантом тоже подрабатывал в школе. Своим учительским опытом я дорожу. Многие открытия для самого себя, которые затем стали открытиями в области понимания или интерпретации сюжетов классических произведений, были сделаны именно на уроках с детьми. Это была школа — в диалоге с мыслящими детьми я брал материал на заметку для научных публикаций.
Так, например, в конце 90-х годов мной впервые была предложена совершенно иная интерпретация «Грозы» Островского. Доклад был прочитан в Институте филологии СО РАН (г. Новосибирск), а затем опубликована статья в серьезном научном издании.
— Как выбрали путь именно преподавателя-исследователя?
— Те открытия, аспирантские доклады по истории отечественной словесности, многие были сделаны в процессе преподавания литературы в школе. Это вполне объяснимо и объективно. Литературное образование — одно из проблемных направлений, которое всегда существовало в отечественной педагогике.
Дискуссии вокруг того, что должен читать ребёнок в школе, какой перечень произведений школа должна давать, возникали постоянно. Я говорю: «Россия всегда позиционировала себя как литературоцентричное государство, где литература — не просто чтение и пересказ. Текст формирует мышление ребёнка и человека. И от того, что он читает, как читает, с кем читает и как воспринимает и интерпретирует прочитанное, во многом зависит умонастроение целой нации».
— Согласна. Хорошо, тогда движемся к институту культуры…
— Институт культуры оказался на жизненном повороте опять же случайно, после окончания аспирантуры в Новосибирске, в Институте филологии СО РАН. Естественно, я вернулся на кафедру фольклора и русской литературы Кемеровского университета. Ничего не предвещало: коллектив кафедры ждал, декан факультета Евгений Анатольевич Сурков ожидал возвращения, была определена учебная нагрузка. Это было само собой разумеющееся: отучился и вернулся. Траектория пути прямая и ясная.
Но поступил звонок из института культуры. Заведующая кафедрой литературы — такая кафедра в КемГИК всегда была, только по-разному называлась — Людмила Фёдоровна Перминова пригласила работать на кафедру. Я почему-то принял это приглашение. Что меня тогда подтолкнуло на этот поступок, не могу сказать. А на родном факультете разгорелся скандал. Евгений Анатольевич Сурков сурово сказал: «Я этого не допущу!» Конечно, это были просто эмоции.
Сейчас я хорошо понимаю: у руководителя всегда стоит проблема обеспеченности процесса кадрами. «Кадры решают всё, а не лошади и машины», - как говорил Сталин. Этот эмоциональный выплеск абсолютно понятен: каждый сотрудник оценён в общем деле, и когда вдруг уходит подготовленный специалист да еще и с учёной степенью, выпадает из штатного расписания, это воспринимается болезненно. Но я ушёл на постоянную работу в КемГИК и совмещал работу на факультете филологии и журналистики КемГУ ещё очень долго – до 2014 года. Вот такой консенсус был. Это произошло в 2001 году, то есть фактически четверть века я в КемГИК — от постаспирантских лет до сегодняшнего времени.
— Когда получили предложение стать ректором, что испытали? Готовы были?
— Про ректорство — это было неожиданно. Очень сложный период. Я тогда ещё не осознавал, какие проблемы за этим могут возникнуть. И они возникли. Сразу и много. И за всё надо было отвечать мне. По всем направлениям работы нести ответственность. Жребий был брошен (Alea jacta est), выбор сделан. Раз встал на этот путь, то сойти с него было бы не то, что предательством, а демонстрацией своей несостоятельности.
Поэтому я об этом много никогда не рассказывал — как этот выбор произошёл. Близкое окружение знает, какие испытания пришлось пройти. Но они не ослабили позиции ни как человека, ни как руководителя. Они придают определённые силы и жизненный опыт, без которого дальнейшая жизнь непредставима.
— Когда получили предложение стать ректором, что испытали? Готовы были?
— Про ректорство — это было неожиданно. Очень сложный период. Я тогда ещё не осознавал, какие проблемы за этим могут возникнуть. И они возникли. Сразу и много. И за всё надо было отвечать мне. По всем направлениям работы нести ответственность. Жребий был брошен (Alea jacta est), выбор сделан. Раз встал на этот путь, то сойти с него было бы не то, что предательством, а демонстрацией своей несостоятельности.
Поэтому я об этом много никогда не рассказывал — как этот выбор произошёл. Близкое окружение знает, какие испытания пришлось пройти. Но они не ослабили позиции ни как человека, ни как руководителя. Они придают определённые силы и жизненный опыт, без которого дальнейшая жизнь непредставима.
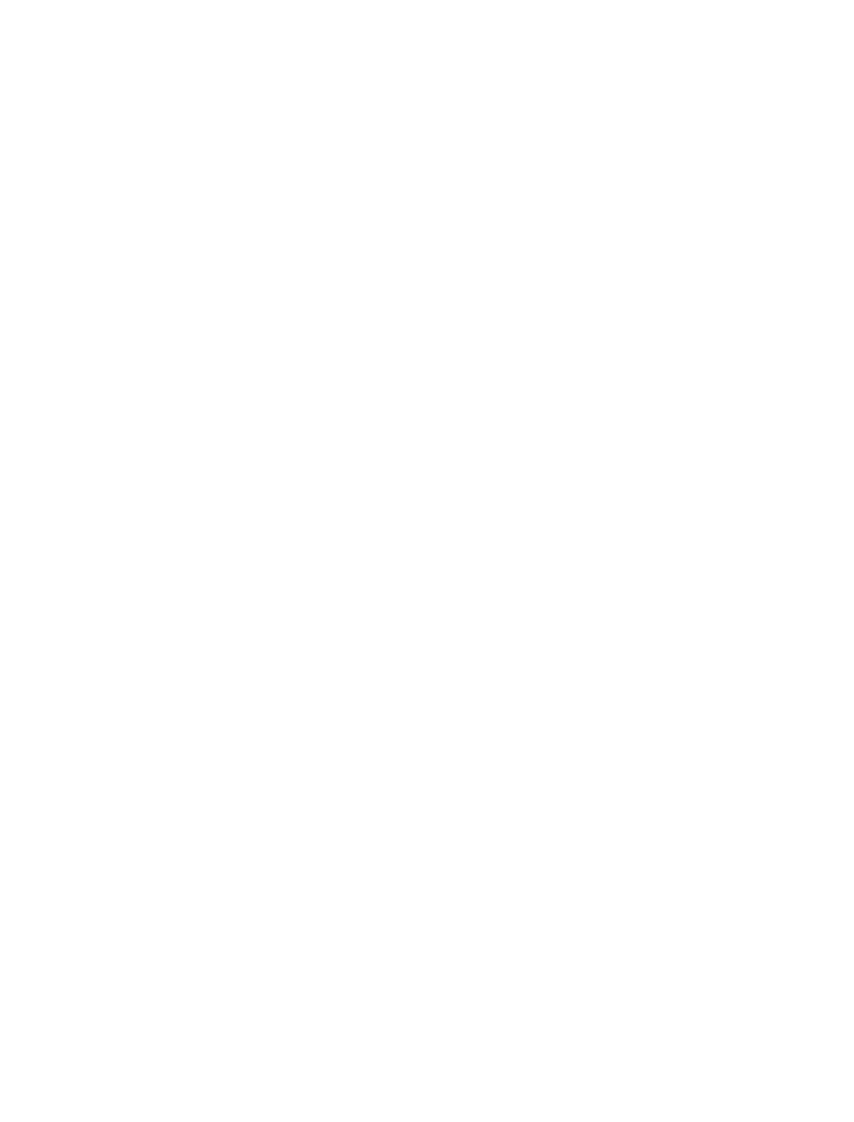
— Интересно. Мне кажется, что вуз культуры — сложный организм, со сложными взаимоотношениями внутри.
— Думаю, любая организация сложная. У каждой своя специфика, свой микроклимат, своя атмосфера, которые определяются традициями. Без знания опять же «текста» традиций невозможно выстраивать что-то новое. Я же не сразу ректором стал. В 2005 году принял заведование кафедрой — тогда это тоже было очень непростое и первое испытание. По прошествии лет тот период воспринимаешь как детский. Потом должность проректора, потом — ректор.
Самое важное — это какую позицию ты занимаешь в общении с коллективом и вовне, то есть в том мире, который существует за пределами учебных зданий, аудиторий. Мне всегда было важно сохранять открытость в общении с коллегами. Не прогибаться, не лебезить — это не открытость. А именно идти на разговор, на диалог с теми людьми, которые могут помочь, дать совет или обмануть, «подставить». Ведь советы бывают разные — не только положительные, но и приводившие к неприятностям большим и малым.
— И такие были?
— Конечно. Если мы говорим про культуру и текст, за каждым словом стоят определённые действия, мотивы. И ты не всегда их считываешь и понимаешь — что за этим стоит, к чему может привести. «Опыт, сын ошибок трудных». Это важно.
Но то, чего у вуза не было — это открытости во внешний мир. Всегда существовал такой стереотип про вуз культуры как развлекательно-душеполезного заведения, где пляшут и поют, весело живут. Какая там может быть наука, какие серьёзные проекты? У вас всю жизнь либо спектакль, либо концерт и художественная самодеятельность, такая прекрасная картинка без какой-либо серьезности. А за всем этим стояла проблема — как донести до широкой аудитории, что вуз культуры на самом деле очень серьёзная институция.
Проблемы, которые затрагивают культуру, фактически имеют глобальный контекст. И слава Богу, что с 2016 года, и даже ранее – с 2014, в стране стало меняться понимание роли культуры. Эта функция была возложена именно на отрасль культуры, на Министерство культуры и на вузы, подведомственные Минкультуры РФ. И общественность стала постепенно понимать и принимать, что культура формирует сознание человека, отношение к своему миру и глобально к стране. И культура как отрасль экономики также важна, как и промышленность. Как говорится, не хлебом единым жив человек. И во многом именно культура формирует образ мыслей человека, укрепляет веру в идеалы, определяющие его поступки. Этого нельзя изначально увидеть, но вот последствия воплощения идей и идеалов в реальном мире всегда заметны и ощутимы.
— Думаю, любая организация сложная. У каждой своя специфика, свой микроклимат, своя атмосфера, которые определяются традициями. Без знания опять же «текста» традиций невозможно выстраивать что-то новое. Я же не сразу ректором стал. В 2005 году принял заведование кафедрой — тогда это тоже было очень непростое и первое испытание. По прошествии лет тот период воспринимаешь как детский. Потом должность проректора, потом — ректор.
Самое важное — это какую позицию ты занимаешь в общении с коллективом и вовне, то есть в том мире, который существует за пределами учебных зданий, аудиторий. Мне всегда было важно сохранять открытость в общении с коллегами. Не прогибаться, не лебезить — это не открытость. А именно идти на разговор, на диалог с теми людьми, которые могут помочь, дать совет или обмануть, «подставить». Ведь советы бывают разные — не только положительные, но и приводившие к неприятностям большим и малым.
— И такие были?
— Конечно. Если мы говорим про культуру и текст, за каждым словом стоят определённые действия, мотивы. И ты не всегда их считываешь и понимаешь — что за этим стоит, к чему может привести. «Опыт, сын ошибок трудных». Это важно.
Но то, чего у вуза не было — это открытости во внешний мир. Всегда существовал такой стереотип про вуз культуры как развлекательно-душеполезного заведения, где пляшут и поют, весело живут. Какая там может быть наука, какие серьёзные проекты? У вас всю жизнь либо спектакль, либо концерт и художественная самодеятельность, такая прекрасная картинка без какой-либо серьезности. А за всем этим стояла проблема — как донести до широкой аудитории, что вуз культуры на самом деле очень серьёзная институция.
Проблемы, которые затрагивают культуру, фактически имеют глобальный контекст. И слава Богу, что с 2016 года, и даже ранее – с 2014, в стране стало меняться понимание роли культуры. Эта функция была возложена именно на отрасль культуры, на Министерство культуры и на вузы, подведомственные Минкультуры РФ. И общественность стала постепенно понимать и принимать, что культура формирует сознание человека, отношение к своему миру и глобально к стране. И культура как отрасль экономики также важна, как и промышленность. Как говорится, не хлебом единым жив человек. И во многом именно культура формирует образ мыслей человека, укрепляет веру в идеалы, определяющие его поступки. Этого нельзя изначально увидеть, но вот последствия воплощения идей и идеалов в реальном мире всегда заметны и ощутимы.
— Это в глобальном контексте.
— Да. А если говорить о региональном и локальном — это тоже связано. Необходимо дать своему коллективу определённый вектор понимания развития вуза, который обеспечит силы каждому. Я делаю то, что действительно полезно, и результаты вижу тут же. Какие? Это востребованность проектов, идей, воплотившихся уже в образовании студентов – выпускников, которые продолжают наши традиции уже в своей профессиональной деятельности не только в регионе, но и в стране и даже за ее пределами. Наша «территория культуры» очень огромна!
— Я соглашусь, потому что тоже оканчивала КемГУ. И тогда было отношение: университет — это да, а КемГИК — это «Кулёк».
— По поводу «Кулька». Когда я был уже ректором, даже некоторые руководители областных учреждений говорили «ректор «Кулька»». Мне пришлось даже публично — это было одно из областных совещаний — это озвучить, и я тогда сказал: «Да, может быть, и кулёк, только почему-то все к этому кульку, где много «сладостей и вкусного», тянут руки и не гнушаются из этого кулька тянуть леденцы. Да, мы кулёк, но с большим набором «сладостей». И даже не обижаемся». После этого моего публичного выступления такое определение вуза вообще в регионе исчезло.
— Да. А если говорить о региональном и локальном — это тоже связано. Необходимо дать своему коллективу определённый вектор понимания развития вуза, который обеспечит силы каждому. Я делаю то, что действительно полезно, и результаты вижу тут же. Какие? Это востребованность проектов, идей, воплотившихся уже в образовании студентов – выпускников, которые продолжают наши традиции уже в своей профессиональной деятельности не только в регионе, но и в стране и даже за ее пределами. Наша «территория культуры» очень огромна!
— Я соглашусь, потому что тоже оканчивала КемГУ. И тогда было отношение: университет — это да, а КемГИК — это «Кулёк».
— По поводу «Кулька». Когда я был уже ректором, даже некоторые руководители областных учреждений говорили «ректор «Кулька»». Мне пришлось даже публично — это было одно из областных совещаний — это озвучить, и я тогда сказал: «Да, может быть, и кулёк, только почему-то все к этому кульку, где много «сладостей и вкусного», тянут руки и не гнушаются из этого кулька тянуть леденцы. Да, мы кулёк, но с большим набором «сладостей». И даже не обижаемся». После этого моего публичного выступления такое определение вуза вообще в регионе исчезло.
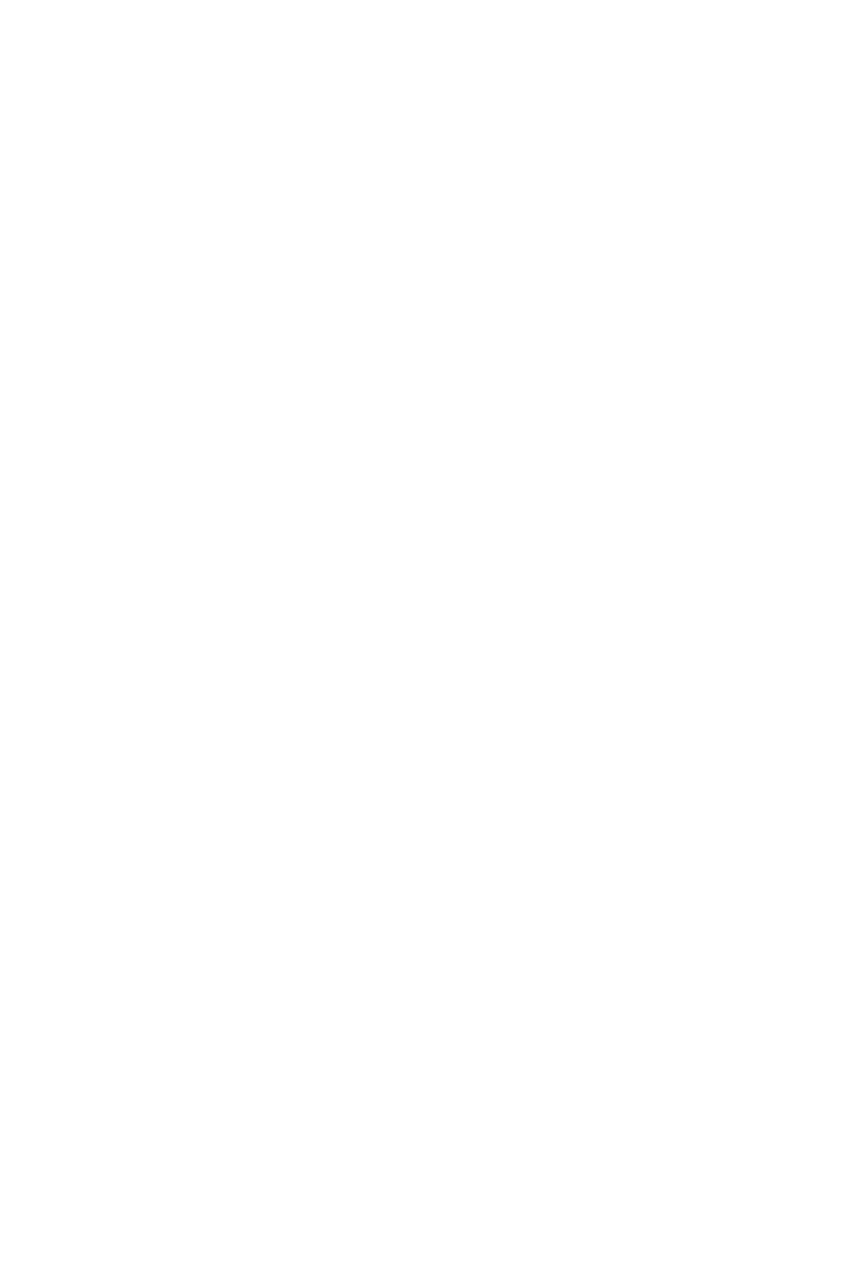
— Стратегия на выстраивание нужного имиджа сработала.
— Конечно. «Кулёк» превратился в институт культуры, и в том числе благодаря активности в социальных сетях. Люди уже не воспринимают вуз как нечто полукустарное. Вуз укрепился — кажется, что это машина по созданию смыслов и ценностей, всего полезного, нужного, интересного, необычного и современного.
Об этом я тоже думаю, и это я признаю как мою личную заслугу и заслугу коллектива, который работает со мной — именно по трансформации этого стереотипа. Вуз культуры — это мощный образовательный центр, который формирует представление о смысле во всём: отношение к жизни, восприятие художественного творчества, культурно-философских идей. Я ставлю это как одну из достигнутых целей.
— Интервью с Вами – 14-ое в проекте «Территория культуры». Было 13 героев. И, конечно, каждый — звезда, каждый поражает и своей увлечённостью, и талантом. Как удалось сформировать такую классную команду? Как Вы их чувствуете? Почему именно эти люди?
— Меня часто спрашивают про мой авторский проект «Университет культуры», запущенный в медипространстве в период пандемии. Пандемия всех разбила на атомы и заключила в узкие локальные точки — сидеть дома. Надо было искать способы поддерживать отношения, связи.
Тогда и возникла идея — показать широкой общественности известных, именитых персон КемГИК. Было сделано 10 видеовыпусков. Возникала идея продолжить проект. Но большая загруженность не позволила осуществить намеченные планы, просто не хватало времени. Хотя я где-то и говорил об этом публично — первые два сценария проекта «Университет культуры 2.0» были написаны, но не воплощены, а герои уже были обозначены.
Как продолжение «Университета культуры» этим летом с материала о парке института и родился медиапроект «Территория культуры». За каждым деревом нашего вузовского парка оказалось, что стоит историческая личность: кто садил, как, какие ассоциации и воспоминания по этому поводу возникают. И за каждой веточкой возникали целые судьбы персонажей – героев из истории КемГИКа. И почему мы должны говорить только о состоявшихся учёных, деятелях культуры, которые в КемГИК работали или продолжают работать много лет? Историю делают не только герои в великом понимании, но и «пехота». Без них жизнь не жизнь, и развитие непредставимо. Поэтому и возникла идея, что надо ввести в этот новый проект молодых преподавателей, которые уже имеют опыт, награды, своё видение, свои результаты и творческие проекты. Дать им широкую дорогу в медиа, что называется явить их, показать «городу и миру». Так оно и получилось. Но в новый проект «Территория культуры» все-таки вошло и несколько не менее известных учёных вуза.
— Конечно. «Кулёк» превратился в институт культуры, и в том числе благодаря активности в социальных сетях. Люди уже не воспринимают вуз как нечто полукустарное. Вуз укрепился — кажется, что это машина по созданию смыслов и ценностей, всего полезного, нужного, интересного, необычного и современного.
Об этом я тоже думаю, и это я признаю как мою личную заслугу и заслугу коллектива, который работает со мной — именно по трансформации этого стереотипа. Вуз культуры — это мощный образовательный центр, который формирует представление о смысле во всём: отношение к жизни, восприятие художественного творчества, культурно-философских идей. Я ставлю это как одну из достигнутых целей.
— Интервью с Вами – 14-ое в проекте «Территория культуры». Было 13 героев. И, конечно, каждый — звезда, каждый поражает и своей увлечённостью, и талантом. Как удалось сформировать такую классную команду? Как Вы их чувствуете? Почему именно эти люди?
— Меня часто спрашивают про мой авторский проект «Университет культуры», запущенный в медипространстве в период пандемии. Пандемия всех разбила на атомы и заключила в узкие локальные точки — сидеть дома. Надо было искать способы поддерживать отношения, связи.
Тогда и возникла идея — показать широкой общественности известных, именитых персон КемГИК. Было сделано 10 видеовыпусков. Возникала идея продолжить проект. Но большая загруженность не позволила осуществить намеченные планы, просто не хватало времени. Хотя я где-то и говорил об этом публично — первые два сценария проекта «Университет культуры 2.0» были написаны, но не воплощены, а герои уже были обозначены.
Как продолжение «Университета культуры» этим летом с материала о парке института и родился медиапроект «Территория культуры». За каждым деревом нашего вузовского парка оказалось, что стоит историческая личность: кто садил, как, какие ассоциации и воспоминания по этому поводу возникают. И за каждой веточкой возникали целые судьбы персонажей – героев из истории КемГИКа. И почему мы должны говорить только о состоявшихся учёных, деятелях культуры, которые в КемГИК работали или продолжают работать много лет? Историю делают не только герои в великом понимании, но и «пехота». Без них жизнь не жизнь, и развитие непредставимо. Поэтому и возникла идея, что надо ввести в этот новый проект молодых преподавателей, которые уже имеют опыт, награды, своё видение, свои результаты и творческие проекты. Дать им широкую дорогу в медиа, что называется явить их, показать «городу и миру». Так оно и получилось. Но в новый проект «Территория культуры» все-таки вошло и несколько не менее известных учёных вуза.
— Да, интересно. Но я хочу задать вопрос про сложных людей. Что Вам помогает работать с ними? Может, это знание психологии или интуиция в общении? Как можно такими сложными, талантливыми личностями управлять? Поскольку ректор — он же ещё и менеджер.
— Нельзя сказать, что и я сам простой. Это надо осознавать, и это не бахвальство. И, естественно, сам допускаешь ошибки — в коммуникациях, в других каких-то ситуациях. Но я считаю, что во всех сложных моментах мы — я и мои коллеги — можем находить точки соприкосновения и выходить на диалог. Что-то принимается, что-то нет, но если это не вредит общей стратегии развития вуза, его репутации, его экономической, финансовой безопасности, то всё можно принять. Но если вдруг такая ситуация возникает, то здесь решение категорично – сразу нет. И в человеческом отношении, и в профессиональном.
Потому что вуз — Территория культуры — не твоя частная территория. Я всегда помню: именно ты будешь нести все виды ответственности, которые возложены на первое лицо. Поэтому никогда не пойду на частные соглашения, на корыстную выгоду для себя. Никогда не шёл и не пойду, потому что за мной — история 55 лет вуза, и моя ответственность в том, чтобы эти 55 лет имели своё продолжение.
— Нельзя сказать, что и я сам простой. Это надо осознавать, и это не бахвальство. И, естественно, сам допускаешь ошибки — в коммуникациях, в других каких-то ситуациях. Но я считаю, что во всех сложных моментах мы — я и мои коллеги — можем находить точки соприкосновения и выходить на диалог. Что-то принимается, что-то нет, но если это не вредит общей стратегии развития вуза, его репутации, его экономической, финансовой безопасности, то всё можно принять. Но если вдруг такая ситуация возникает, то здесь решение категорично – сразу нет. И в человеческом отношении, и в профессиональном.
Потому что вуз — Территория культуры — не твоя частная территория. Я всегда помню: именно ты будешь нести все виды ответственности, которые возложены на первое лицо. Поэтому никогда не пойду на частные соглашения, на корыстную выгоду для себя. Никогда не шёл и не пойду, потому что за мной — история 55 лет вуза, и моя ответственность в том, чтобы эти 55 лет имели своё продолжение.
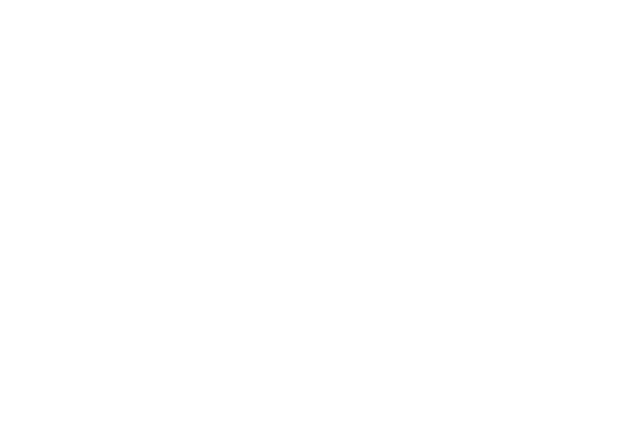
— Такая профессиональная честность актуальна в наше время. Вы всё-таки очень смелый руководитель. Вы делаете очень сложные и смелые вещи сейчас. Получается поймать эту волну и принести пользу институту через изучение возможностей работы с ИИ в образовании?
— Есть Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденная Указом Президента №490 в 2019 году и значительно обновленная в феврале 2024 года. Основные цели этой стратегии – обеспечение лидерства России в области искусственного интеллекта для конкурентоспособности экономики, национальной безопасности и повышения качества жизни. Эта стратегия напрямую касается и сферы культуры и образования.
— Получается, КемГИК один из первых вузов, кто начал системную работу по реализации положений стратегии?
— На Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, который проходит ежегодно, есть секция, посвящённая искусственному интеллекту — его роли, возможностям, месту в сфере культуры и искусства. Дискуссии идут, это всё есть в открытом доступе. Иное дело, как от слов перейти к делам, внедрить в повседневность, в практику и при этом не навредить, не нарушив те алгоритмы, которые работают на протяжении многих лет, и они результативны.
Но давайте сделаем небольшое отступление. По поводу социальных сетей меня постоянно спрашивают. Сейчас наличие у руководителя своего аккаунта в социальных сетях — это один из первых пунктов, который он должен иметь. Я вспоминаю 2000-е годы, когда социальные сети набирали популярность у молодёжи. Я в социальных сетях с 2008 года.
Но все это воспринимали как баловство. Меня спрашивали: «Зачем тебе это?». Я вёл социальные сети уже тогда, и для меня это было просто как новостная газета. Новое СМИ, которое транслировало информацию, новости — те интересные события, которые в хронике официальных СМИ появлялись с опозданием, а в социальных сетях моментально. Это расширяло горизонт и подкидывало идеи, которые опять же можно воплотить и в своей работе. Надо только уметь читать!
— Есть Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденная Указом Президента №490 в 2019 году и значительно обновленная в феврале 2024 года. Основные цели этой стратегии – обеспечение лидерства России в области искусственного интеллекта для конкурентоспособности экономики, национальной безопасности и повышения качества жизни. Эта стратегия напрямую касается и сферы культуры и образования.
— Получается, КемГИК один из первых вузов, кто начал системную работу по реализации положений стратегии?
— На Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, который проходит ежегодно, есть секция, посвящённая искусственному интеллекту — его роли, возможностям, месту в сфере культуры и искусства. Дискуссии идут, это всё есть в открытом доступе. Иное дело, как от слов перейти к делам, внедрить в повседневность, в практику и при этом не навредить, не нарушив те алгоритмы, которые работают на протяжении многих лет, и они результативны.
Но давайте сделаем небольшое отступление. По поводу социальных сетей меня постоянно спрашивают. Сейчас наличие у руководителя своего аккаунта в социальных сетях — это один из первых пунктов, который он должен иметь. Я вспоминаю 2000-е годы, когда социальные сети набирали популярность у молодёжи. Я в социальных сетях с 2008 года.
Но все это воспринимали как баловство. Меня спрашивали: «Зачем тебе это?». Я вёл социальные сети уже тогда, и для меня это было просто как новостная газета. Новое СМИ, которое транслировало информацию, новости — те интересные события, которые в хронике официальных СМИ появлялись с опозданием, а в социальных сетях моментально. Это расширяло горизонт и подкидывало идеи, которые опять же можно воплотить и в своей работе. Надо только уметь читать!
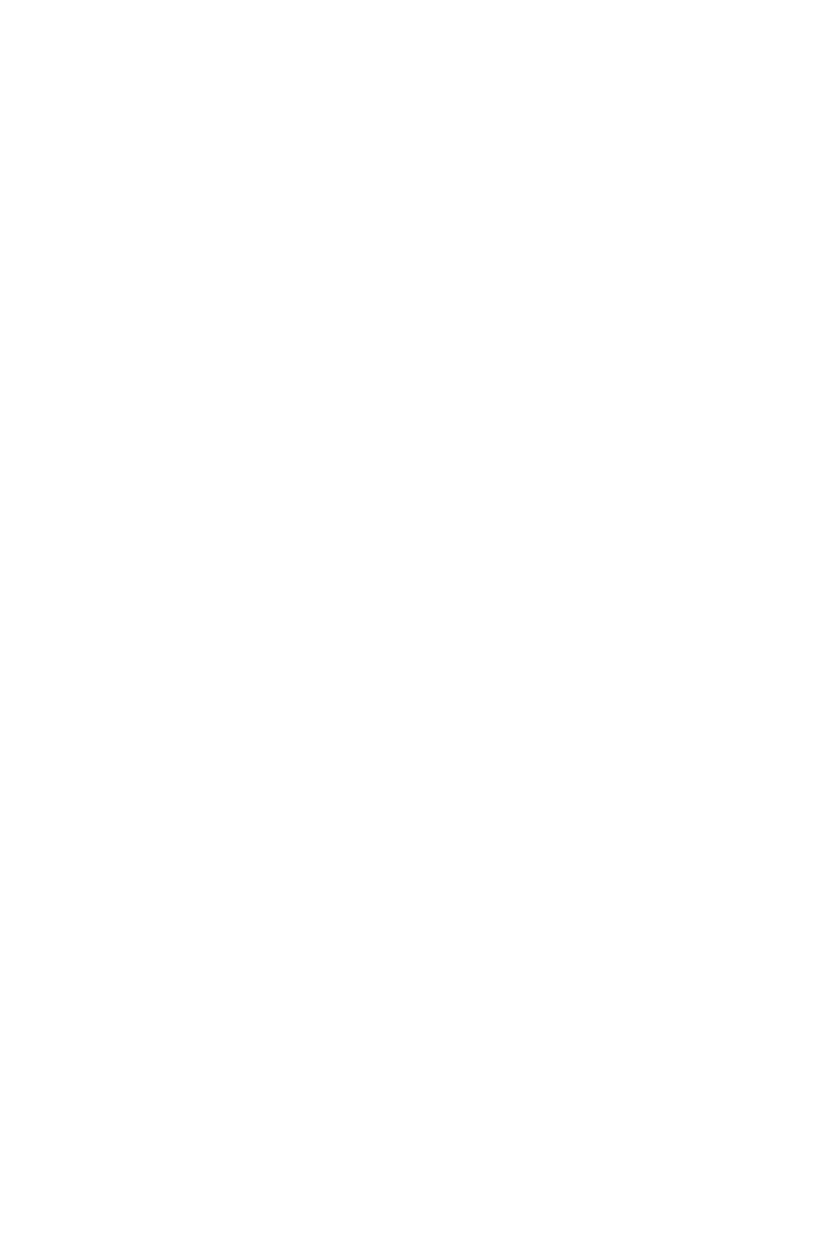
Потом, с наступлением 20-х годов, когда пришла пандемия, вдруг всех обязали быть в социальных сетях, рассказывать о делах, вести диалог, да даже работать в них. И у всех вдруг это стало инструментом. И у кого-то получается хорошо, у кого-то плохо. Есть топовые авторы, которых считают приятными и полезными, и оттуда тоже черпаешь — заимствую, принимаю информацию, это даёт возможность определять свои действия.
Точно так же с искусственным интеллектом. Об искусственном интеллекте говорится уже давно, не год и не два. Боюсь ошибиться, с какого года, но раз это явление уже стало реальностью — его нельзя не замечать.
Все эти популистские рассуждения о том, что искусственный интеллект, технологии нейросетей упрощают человеческие функции, приводят к деградации мышления — это ерунда. Потому что точно так же говорилось и про компьютеризацию. Эпоха приносит свои новые инструменты, которыми человек должен учиться владеть на определённом этапе развития цивилизации. Иногда в качестве примера приводят Стива Джобса, создателя айфона, который якобы запрещал своему близкому окружению пользоваться айфонами. Но тем не менее инструмент существует.
— Это страшилки, мне кажется.
— Может быть. Человек всегда живёт мифами. Они подпитывают его интерес к жизни. Точно так же и с искусственным интеллектом. Ни один здравомыслящий человек не будет отрицать, что это уже есть, и этим инструментом надо уметь пользоваться.
Те же коллеги из Китая чётко проводят границу: вот это настоящее искусство, оно ценится, оно индивидуально, это шедевры. А есть тиражируемые копии, которые создаются с помощью инструмента, в том числе нейросетей — как забава, как коммерческий массовый продукт, как события, которые придают определённый вкус к жизни. Никто никогда не отменит и не заменит истинного творца на созданного искусственным интеллектом аватара.
Консервативно настроенная аудитория всегда существует, и она будет сопротивляться. Но эта категория аудитории тоже даёт возможность проанализировать свои действия и выработать другие алгоритмы работы.
— Расскажите о сотрудничестве КемГИК с Китаем. Серьёзная история, давняя
— Да, началась в 2007 году, и этому сотрудничеству уже скоро 20 лет. Неплохо, да?
— Мне кажется, не у всех вузов культуры есть такой длительный период сотрудничества
— Причём не только на уровне региона, но и на уровне Федерации, страны. Это, действительно, серьёзный багаж. Опыт надо сохранять, приумножать и развивать. Основополагающая идея: на тебе это не должно прерваться. Поэтому задача любого руководителя — принять традицию, её продолжить, приумножить и дать возможность ей существовать уже после себя.
Точно так же с искусственным интеллектом. Об искусственном интеллекте говорится уже давно, не год и не два. Боюсь ошибиться, с какого года, но раз это явление уже стало реальностью — его нельзя не замечать.
Все эти популистские рассуждения о том, что искусственный интеллект, технологии нейросетей упрощают человеческие функции, приводят к деградации мышления — это ерунда. Потому что точно так же говорилось и про компьютеризацию. Эпоха приносит свои новые инструменты, которыми человек должен учиться владеть на определённом этапе развития цивилизации. Иногда в качестве примера приводят Стива Джобса, создателя айфона, который якобы запрещал своему близкому окружению пользоваться айфонами. Но тем не менее инструмент существует.
— Это страшилки, мне кажется.
— Может быть. Человек всегда живёт мифами. Они подпитывают его интерес к жизни. Точно так же и с искусственным интеллектом. Ни один здравомыслящий человек не будет отрицать, что это уже есть, и этим инструментом надо уметь пользоваться.
Те же коллеги из Китая чётко проводят границу: вот это настоящее искусство, оно ценится, оно индивидуально, это шедевры. А есть тиражируемые копии, которые создаются с помощью инструмента, в том числе нейросетей — как забава, как коммерческий массовый продукт, как события, которые придают определённый вкус к жизни. Никто никогда не отменит и не заменит истинного творца на созданного искусственным интеллектом аватара.
Консервативно настроенная аудитория всегда существует, и она будет сопротивляться. Но эта категория аудитории тоже даёт возможность проанализировать свои действия и выработать другие алгоритмы работы.
— Расскажите о сотрудничестве КемГИК с Китаем. Серьёзная история, давняя
— Да, началась в 2007 году, и этому сотрудничеству уже скоро 20 лет. Неплохо, да?
— Мне кажется, не у всех вузов культуры есть такой длительный период сотрудничества
— Причём не только на уровне региона, но и на уровне Федерации, страны. Это, действительно, серьёзный багаж. Опыт надо сохранять, приумножать и развивать. Основополагающая идея: на тебе это не должно прерваться. Поэтому задача любого руководителя — принять традицию, её продолжить, приумножить и дать возможность ей существовать уже после себя.
— А кроме обмена студентами, участия в совместных мероприятиях, что даёт Китай вузу?
— Конечно, это имиджевая составляющая. У вуза в китайском пространстве очень хорошая репутация и авторитет именно как российского вуза культуры. Вуз, с которым можно сотрудничать и который гарантирует качество. Это не формальное сотрудничество, оно подкреплено реальными результатами, которые не все достигают.
Имиджевые законы в Китае работают точно так же. Существует рейтинговая система оценки деятельности китайских университетов, и международная деятельность, сотрудничество по обменным программам находятся в системе оценки деятельности университета.
Когда в перспективе возникает новый российский партнёр, они собирают всю информацию о нём в своём китайском интернет-пространстве, наводят справки: с кем сотрудничали, когда, каких результатов достигли. Я это знаю из своей практики. Поэтому именно репутационная составляющая — одна из главных в оценке нашего вуза китайскими партнерами.
— Александр Викторович, я знаю, что Вам нравится уличное искусство: граффити, муралы. Они для Вас тоже «текст»?
— Да. Это всё надо уметь читать. Как интересен сюжет того или иного произведения, так интересен может быть сюжет среды, в которой ты находишься. У меня и с вузом так было. За прошедшие 9 лет пространство КемГИКа я серьёзно изменил — интерьеры, события, стереотипы в отношение вуза. Потому что выпускники нашего института приносят в мир и то, что впитали здесь, у нас. И очень хочется верить, что «текст», который они будут транслировать сможет менять мир в лучшую сторону, наполняя его красотой, глубокими смыслами, пробуждая в людях интерес к познанию себя, что совершенно невозможно вне контекста культуры.
— Конечно, это имиджевая составляющая. У вуза в китайском пространстве очень хорошая репутация и авторитет именно как российского вуза культуры. Вуз, с которым можно сотрудничать и который гарантирует качество. Это не формальное сотрудничество, оно подкреплено реальными результатами, которые не все достигают.
Имиджевые законы в Китае работают точно так же. Существует рейтинговая система оценки деятельности китайских университетов, и международная деятельность, сотрудничество по обменным программам находятся в системе оценки деятельности университета.
Когда в перспективе возникает новый российский партнёр, они собирают всю информацию о нём в своём китайском интернет-пространстве, наводят справки: с кем сотрудничали, когда, каких результатов достигли. Я это знаю из своей практики. Поэтому именно репутационная составляющая — одна из главных в оценке нашего вуза китайскими партнерами.
— Александр Викторович, я знаю, что Вам нравится уличное искусство: граффити, муралы. Они для Вас тоже «текст»?
— Да. Это всё надо уметь читать. Как интересен сюжет того или иного произведения, так интересен может быть сюжет среды, в которой ты находишься. У меня и с вузом так было. За прошедшие 9 лет пространство КемГИКа я серьёзно изменил — интерьеры, события, стереотипы в отношение вуза. Потому что выпускники нашего института приносят в мир и то, что впитали здесь, у нас. И очень хочется верить, что «текст», который они будут транслировать сможет менять мир в лучшую сторону, наполняя его красотой, глубокими смыслами, пробуждая в людях интерес к познанию себя, что совершенно невозможно вне контекста культуры.
Автор идеи проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Александр Никольский, Макар Гречишкин, Евгений Лехнер, Данил Закрыжевский и из личного архива Александра Шункова
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Александр Никольский, Макар Гречишкин, Евгений Лехнер, Данил Закрыжевский и из личного архива Александра Шункова