Две судьбы, один Учитель: история Надежды Колковой и Инны Скипор
Есть люди, которые меняют жизни других, и Стас Андреевич Сбитнев (1918-2002) прекрасно это понимал. Его называли «человеком из будущего», «пионером автоматизации в стране». Он умел разглядеть потенциал в случайной встрече и одним разговором направить судьбу в нужное русло. Эта история — о двух женщинах, чьи жизни он изменил: одну — предложением о работе, другую — «случайным» вопросом в институтском коридоре.
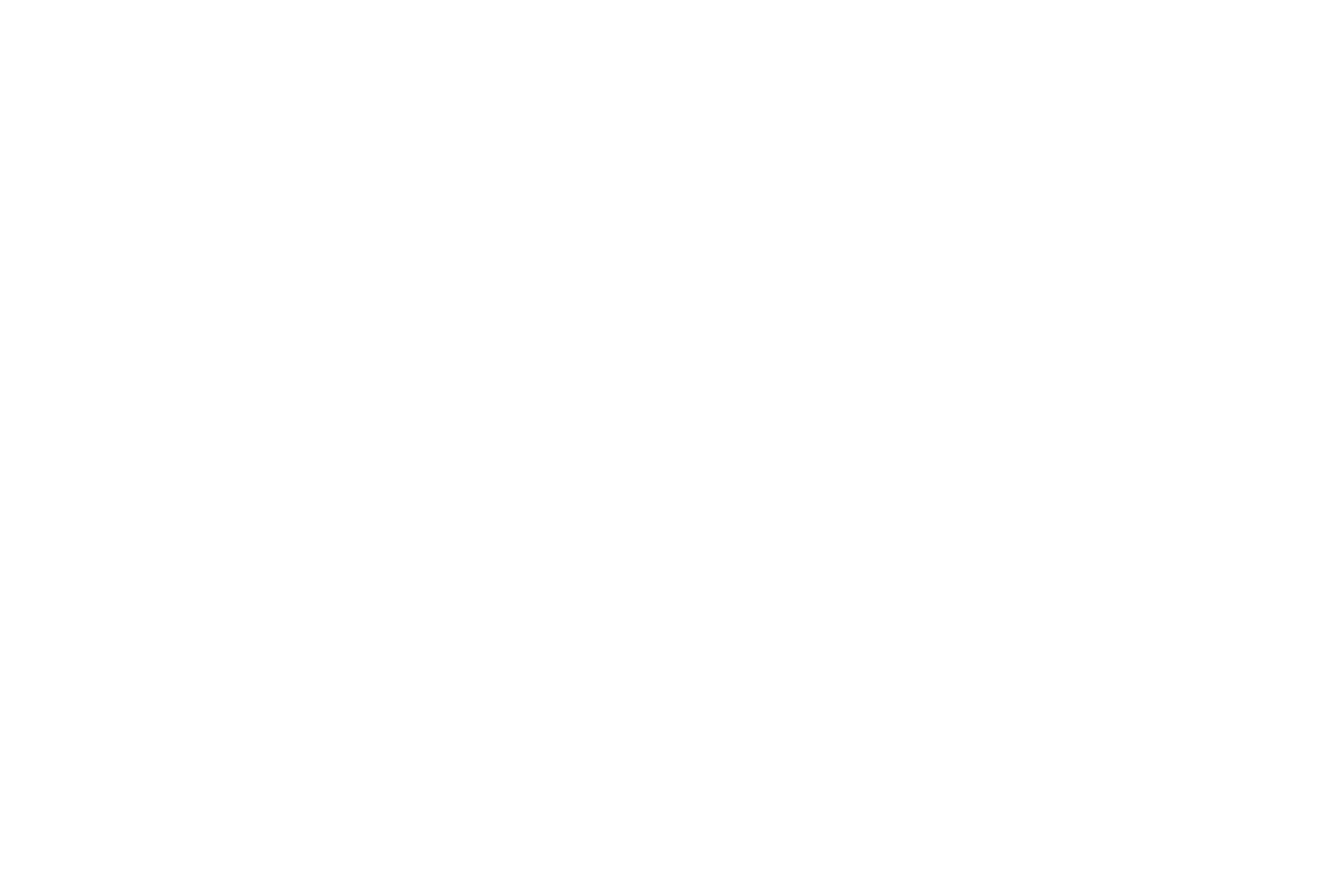
Надежда Ивановна Колкова: «Я знала, что уйду с завода»
Десять лет на химическом комбинате — стабильная работа, привычный график «семь на семь». Надежда Ивановна Колкова жила обычной жизнью инженера-химика, пока дома не начались разговоры о загадочном Стасе Андреевиче, который занимается автоматизацией и приглашает к себе единомышленников со всей страны.
«Муж рассказывал о встречах с этим человеком из Центра научно-технической информации. Мне стало интересно», — вспоминает Надежда Ивановна. Анатолий Иванович Колков, директор первого вычислительного центра в Кузбассе, окончивший Новосибирский электротехнический институт, был одним из тех, с кем Сбитнев обсуждал революционные идеи автоматизации.
«Они встречались, обсуждали профессиональные темы. Стас Андреевич к нему приходил — у него все карты были в руках: и техника, и результаты её применения. Анатолий Иванович очень любил приглашать к себе людей, которые были посвящены в автоматизацию. Всё время у нас дома были такие разговоры, такие люди».
«Муж рассказывал о встречах с этим человеком из Центра научно-технической информации. Мне стало интересно», — вспоминает Надежда Ивановна. Анатолий Иванович Колков, директор первого вычислительного центра в Кузбассе, окончивший Новосибирский электротехнический институт, был одним из тех, с кем Сбитнев обсуждал революционные идеи автоматизации.
«Они встречались, обсуждали профессиональные темы. Стас Андреевич к нему приходил — у него все карты были в руках: и техника, и результаты её применения. Анатолий Иванович очень любил приглашать к себе людей, которые были посвящены в автоматизацию. Всё время у нас дома были такие разговоры, такие люди».
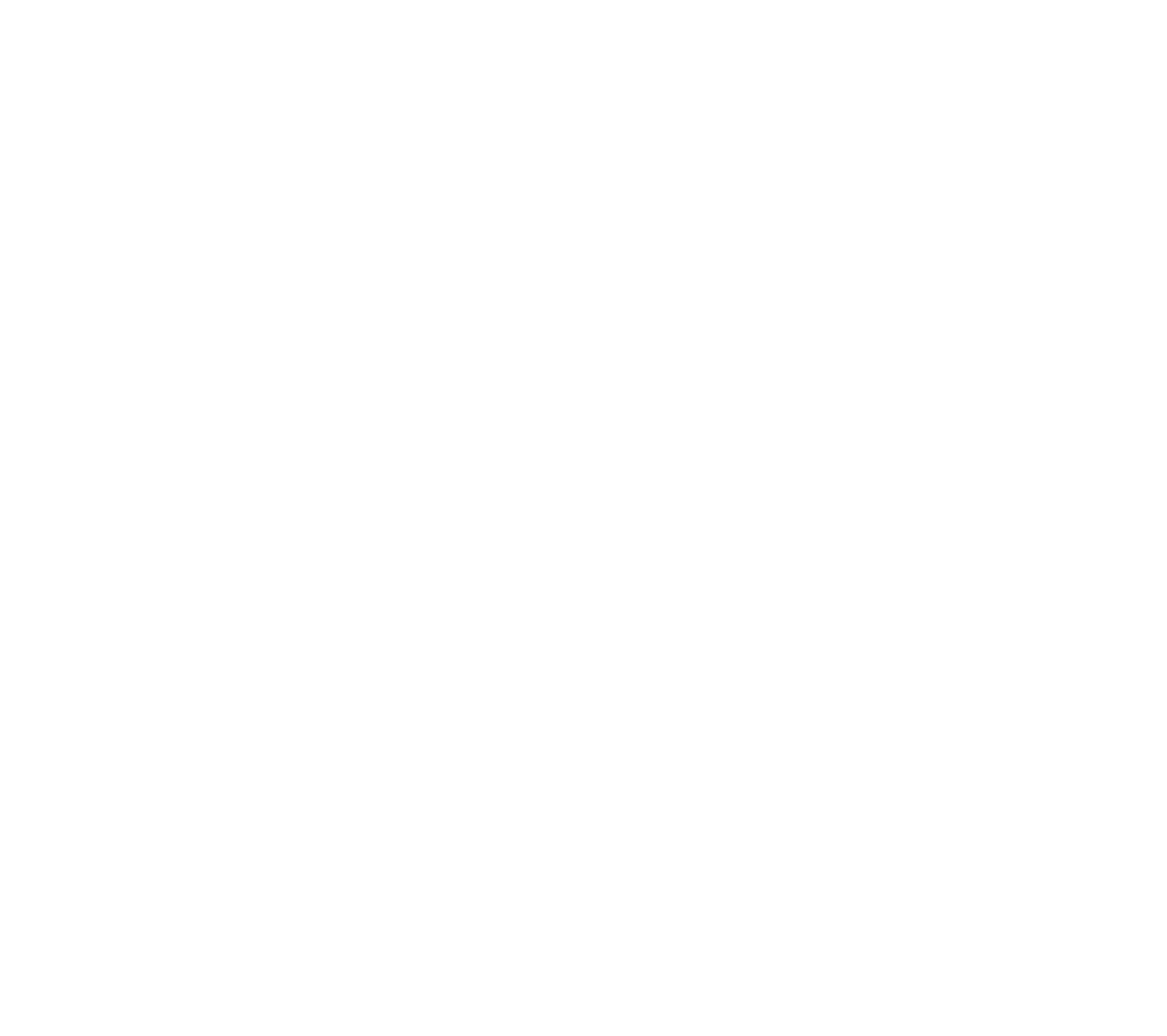
Анатолий Иванович Колков
Но у самого Анатолия Ивановича была своя одержимость — гармония. Относительно «Золотого сечения», в том числе на практических занятиях со студентами, он вычислял коэффициенты гармоничности музыкальных и литературных произведений, русского языка, социально экономических систем и многих других частей жизни человека, устройства мира.
Следует пояснить, что такое энтропия среднестатистического русского языка. Это энтропия, полученная при анализе самых разнообразных проявлений языка, от поэзии до канцелярских текстов. Следует также отметить, что поэзия имеет энтропию гораздо выше «Золотого сечения», что свидетельствует о ее стремлении к свободе. Канцелярские тексты имеют энтропию гораздо меньшую. Из большого количества проведенных расчетов ближе всего к «Золотому сечению» оказались православные молитвы. Отсюда можно сделать довольно оптимистический вывод: как бы ни тернист был путь человечества (особенно русского народа), язык все же развивается гармонично. Правда, язык слишком инертен, чтобы на основе его анализа делать выводы о гармоничности состояния общества на сегодняшний день. Но более тонкие срезы, например, анализ бытового разговорного языка или газетно-журнальной информации, могут дать возможность оценивать состояние общества в различные моменты его развития. Особенно ценной при этом может быть энтропийная динамика. Подобный анализ может служить хорошим индикатором состояния общества и прогнозом его будущего.
ГАРМОНИЯ СОЦИУМА: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ А. И. Колков
ГАРМОНИЯ СОЦИУМА: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ А. И. Колков
Дома материалы исследований Анатолия Ивановича не помещались. Любовь Ивановна Рудич (1939-2018), тогда заведующая кафедрой управления и экономики культурно-просветительной работы, выделила в институте большую площадь для его экспериментов. «К нему приходили учёные из других вузов. Даже ректор КузГТУ приходил. Все отмечали: очень интересный эксперимент, очень интересная работа».
«Рано ушёл. Неожиданно ушёл», — с грустью говорит Надежда Ивановна. «У него было настоящее дело, идея, которой он жил день и ночь. Сейчас люди просто ходят на работу, выполняют расписание. А людей с собственной идеей, которой они полностью посвящают жизнь, — таких я больше не встречаю».
Когда Надежда Ивановна попросила мужа устроить её в ЦНТИ, произошло неожиданное. Стас Андреевич сказал: «В ЦНТИ места нет, но я перехожу в институт культуры организовывать кафедру. Возможно, поработаем вместе».
24 апреля 1972 года стал переломным днем — Надежда Ивановна Колкова в один день уволилась с завода и трудоустроилась в КемГИК. «С первой встречи со Сбитневым я знала, что уйду с завода и перейду в институт. Хотя на заводе было очень трудно сказать, что ухожу после десяти лет работы».
«Рано ушёл. Неожиданно ушёл», — с грустью говорит Надежда Ивановна. «У него было настоящее дело, идея, которой он жил день и ночь. Сейчас люди просто ходят на работу, выполняют расписание. А людей с собственной идеей, которой они полностью посвящают жизнь, — таких я больше не встречаю».
Когда Надежда Ивановна попросила мужа устроить её в ЦНТИ, произошло неожиданное. Стас Андреевич сказал: «В ЦНТИ места нет, но я перехожу в институт культуры организовывать кафедру. Возможно, поработаем вместе».
24 апреля 1972 года стал переломным днем — Надежда Ивановна Колкова в один день уволилась с завода и трудоустроилась в КемГИК. «С первой встречи со Сбитневым я знала, что уйду с завода и перейду в институт. Хотя на заводе было очень трудно сказать, что ухожу после десяти лет работы».
Школа гения
Первые месяцы в институте стали интенсивным погружением в новый мир: «Я ходила за Стасом Андреевичем на каждую лекцию, каждую консультацию. Он приходил к одиннадцати утра, я — немного раньше. Целый день впитывала, слушала и наблюдала. Быстро поняла — отсюда уже не уйду».
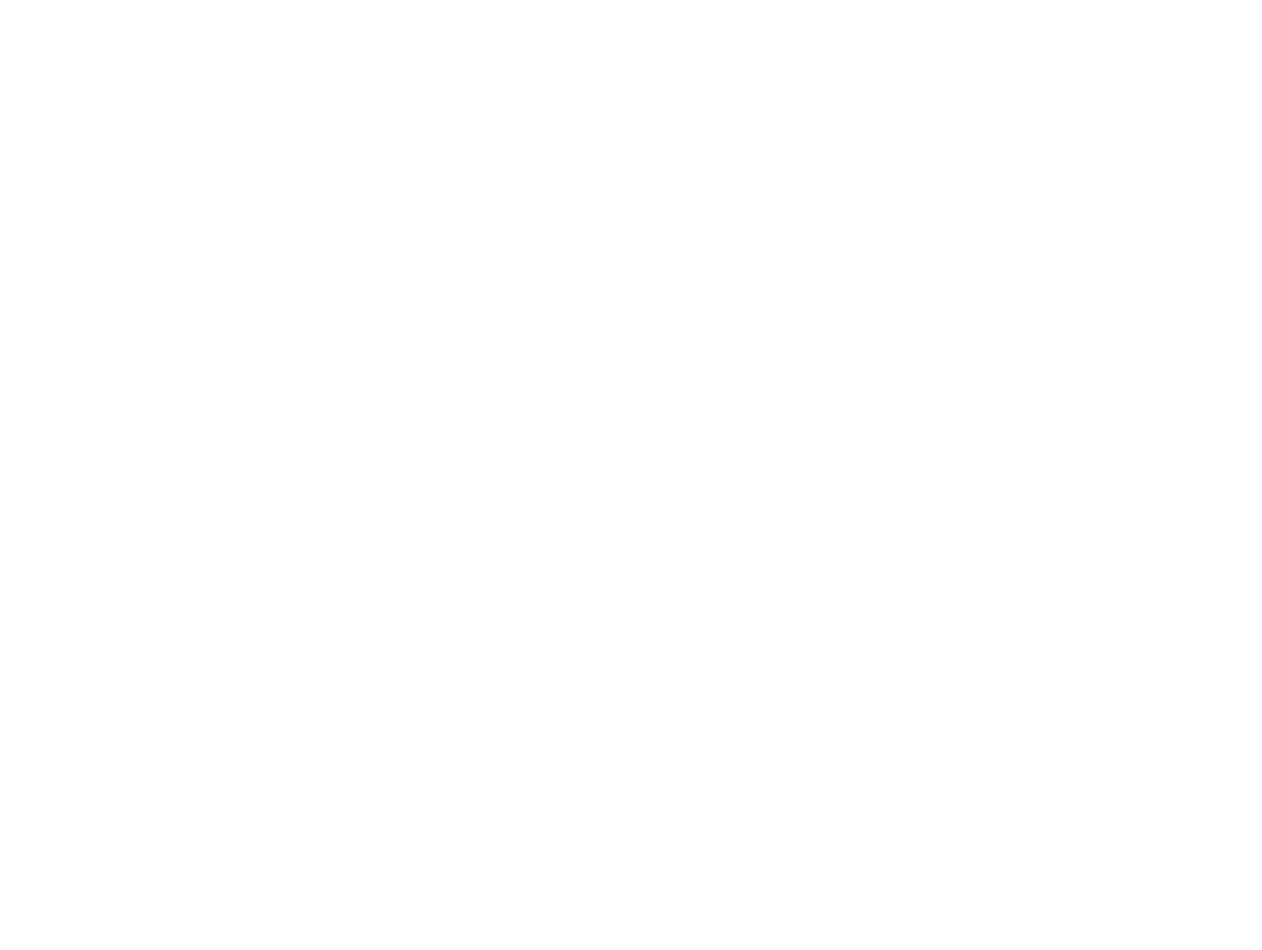
Стас Андреевич был невероятно открытым преподавателем: «У него все лекции были открытые — мог прийти каждый. Об этом все знали. Никаких вопросов не было. Он был гостеприимен в этом отношении».
У Надежды Ивановны было совершенно другое образование, приходилось учить профессиональные термины буквально как иностранный язык. «Терминологию приходилось изучать с нуля — это требовало больших усилий. По сути, я получила второе образование, неформально следуя за Стасом Андреевичем повсюду. Очень переживала — смогу ли соответствовать этой профессиональной среде?»
Помогали совместные исследования: «Он был руководителем темы, а я ответственным исполнителем. Это тоже позволило многое узнать». Постепенно страх ушёл: «Я стала понимать, что уже могу поддерживать разговор с теми, кто профессионально работает на кафедре».
У Надежды Ивановны было совершенно другое образование, приходилось учить профессиональные термины буквально как иностранный язык. «Терминологию приходилось изучать с нуля — это требовало больших усилий. По сути, я получила второе образование, неформально следуя за Стасом Андреевичем повсюду. Очень переживала — смогу ли соответствовать этой профессиональной среде?»
Помогали совместные исследования: «Он был руководителем темы, а я ответственным исполнителем. Это тоже позволило многое узнать». Постепенно страх ушёл: «Я стала понимать, что уже могу поддерживать разговор с теми, кто профессионально работает на кафедре».
От ученицы к наставнице
Стас Андреевич направил её в московскую аспирантуру. «Приехала туда уже не просто химиком, а со знаниями в области библиотечного дела и информационных технологий. Там работали серьёзные люди, многие фронтовики — удивительные личности, похожие на Стаса Андреевича своим служением делу и идеям. Никто не отнёсся ко мне как к случайному человеку».
Аспирантура стала новым этапом профессионального роста: «На вступительном экзамене преподаватели были снисходительны, но всё же увидели потенциал и приняли меня. Там я познакомилась с замечательными людьми. Даже среди аспирантов не было случайных людей».
Аспирантура стала новым этапом профессионального роста: «На вступительном экзамене преподаватели были снисходительны, но всё же увидели потенциал и приняли меня. Там я познакомилась с замечательными людьми. Даже среди аспирантов не было случайных людей».
Система из будущего
Но главное — Надежда Ивановна стала свидетелем разработки системы, которую сегодня мы вполне могли бы назвать прототипом искусственного интеллекта. История началась в 1958 году со статьи американца Ганса Петера Луна о системе избирательного распространения информации компании IBM — адресованной руководителям высшего звена. Стас Андреевич, работая в библиотеке Горного института, понял: такая система нужна и здесь, но трудозатраты слишком велики для обычного коллектива.
Система АИПС (автоматизированная информационно-поисковая система) стала его ответом. «Система предполагала, что пользователь обращается с запросом, из которого ключевые слова закрепляются в его профиль», — объясняет принцип работы Надежда Ивановна. Каждую неделю человек приходил на работу, а система уже подготовила для него релевантную информацию. Вместе с документами выдавался талон обратной связи: «Это по профилю», «Не по профилю», «Среднее», «Высшее для меня».
«Система постепенно настраивалась на информационные потребности пользователя — он получал всё более качественное обслуживание», — описывает то, что сегодня мы называем машинным обучением.
Система АИПС (автоматизированная информационно-поисковая система) стала его ответом. «Система предполагала, что пользователь обращается с запросом, из которого ключевые слова закрепляются в его профиль», — объясняет принцип работы Надежда Ивановна. Каждую неделю человек приходил на работу, а система уже подготовила для него релевантную информацию. Вместе с документами выдавался талон обратной связи: «Это по профилю», «Не по профилю», «Среднее», «Высшее для меня».
«Система постепенно настраивалась на информационные потребности пользователя — он получал всё более качественное обслуживание», — описывает то, что сегодня мы называем машинным обучением.
Техническая реализация поражает: перфокарты из двух частей — с пробивками и без. На сплошной стороне печатались библиографическое описание, аннотация, ключевые слова. Машина работала с перфорированной частью, где та же информация была закодирована перфорацией. Два блока: левый для ввода запроса и выбора стратегии поиска (логическая сумма, логическое произведение), правый — для работы с перфокартами. Система делила массив на релевантную информацию и «информационный шум».
Система была основана на тезаурусном представлении знаний — «для каждого понятия указывались вышестоящие, нижестоящие, ассоциативные понятия. Чтобы искусственный интеллект сейчас устанавливал такие связи, человек должен сначала их заложить», — добавляет Инна Леоновна.
«Стас Андреевич говорил: пользователь даже не должен захотеть что-то найти. Он должен прийти и удивиться — информация уже лежит на столе, причём такая, которую он даже во сне не мог представить».
Государственный комитет по науке и технике дал распоряжение распространить этот опыт по стране. Стас Андреевич ездил по городам, внедряя систему.
Откуда у него были такие знания? «По сути, нас он учил, а его-то никто не учил. Он самостоятельно всё постигал. Каждый месяц на его столе лежал новый реферативный журнал — там были все достижения мирового потока. Таким настойчивым самообразованием, пытливостью он для себя определил направление».
«Стас Андреевич говорил: пользователь даже не должен захотеть что-то найти. Он должен прийти и удивиться — информация уже лежит на столе, причём такая, которую он даже во сне не мог представить».
Государственный комитет по науке и технике дал распоряжение распространить этот опыт по стране. Стас Андреевич ездил по городам, внедряя систему.
Откуда у него были такие знания? «По сути, нас он учил, а его-то никто не учил. Он самостоятельно всё постигал. Каждый месяц на его столе лежал новый реферативный журнал — там были все достижения мирового потока. Таким настойчивым самообразованием, пытливостью он для себя определил направление».
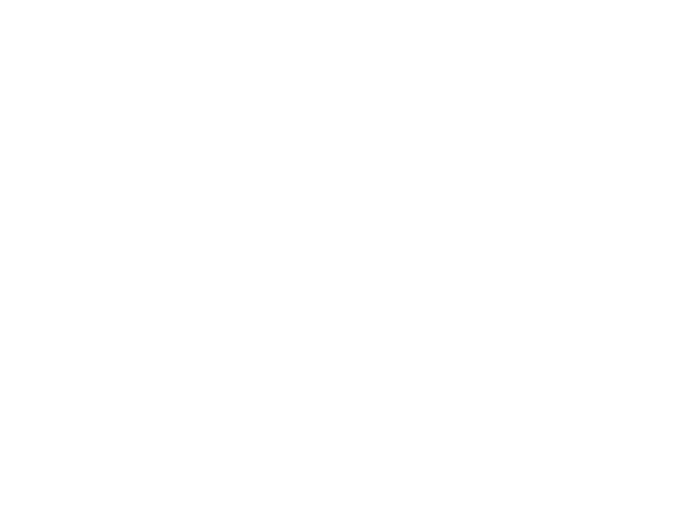
Когда он поехал в Московский институт культуры, оказалось, что «его учителя у него учились. Они любили обсудить с ним какую-то проблему. Не то что по билету — поговорить на равных. Сразу поняли, с кем имеют дело».
Его знали в самых престижных кругах. В ГПНТБ СССР на Кузнецком мосту был отдел информационного обслуживания, которым руководила Дина Яковлевна Соловьёва — жена космонавта. «Она была влюблена в Стаса Андреевича безумно. В профессиональном смысле. Когда он приезжал в Москву, обязательно приходил в этот отдел. Все бегали: "Куда? Что?" — "Стас приехал!" И начиналось интереснейшее — и в профессиональном плане, и за его пределами. Он любил анекдоты рассказать, всё в лицах, так, что никто не мог повторить».
«Это человек из будущего был», — констатирует Надежда Ивановна.
Его знали в самых престижных кругах. В ГПНТБ СССР на Кузнецком мосту был отдел информационного обслуживания, которым руководила Дина Яковлевна Соловьёва — жена космонавта. «Она была влюблена в Стаса Андреевича безумно. В профессиональном смысле. Когда он приезжал в Москву, обязательно приходил в этот отдел. Все бегали: "Куда? Что?" — "Стас приехал!" И начиналось интереснейшее — и в профессиональном плане, и за его пределами. Он любил анекдоты рассказать, всё в лицах, так, что никто не мог повторить».
«Это человек из будущего был», — констатирует Надежда Ивановна.
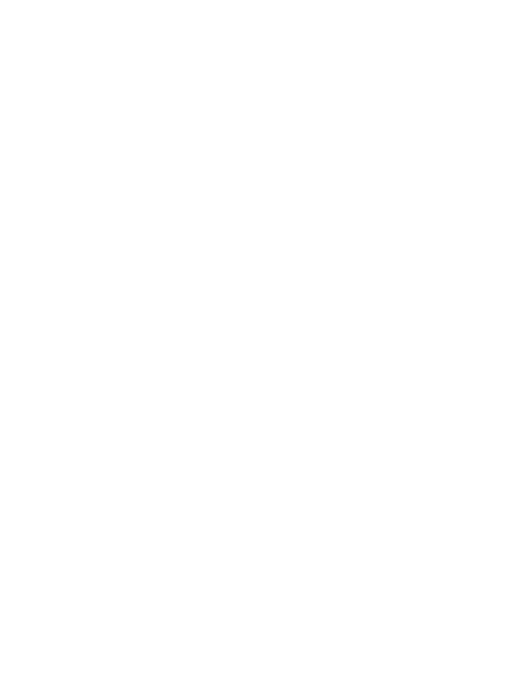
Руководство кафедрой
В 1996 году Надежда Ивановна стала заведующей кафедрой. Во время её руководства кафедра пережила тяжёлые 2000-е: «Писали отчёты, сидя на батареях отопления. Студенты сидели в рукавицах и верхней одежде. Паста в ручках замерзала у нас — здесь было очень холодно. Но дух кафедры сохранился».
«Мы с Инной Леоновной работали в тандеме в 2000-е», — вспоминает Надежда Ивановна. Несмотря на холод и трудности, система АИПС продолжала демонстрироваться гостям — «сначала она была уникальной, потом по чертежам стали создавать аналоги».
«Современной молодёжи это трудно представить, но мы никогда не следили за временем. Здесь действовал совершенно иной жизненный уклад — никто не стремился поскорее попасть домой».
В отличие от прежней работы на заводе, в институте время текло по-другому. Здесь Надежда Ивановна познакомилась с удивительными людьми — первыми студентами Стаса Андреевича. «Это были выдающиеся люди. Многие остались работать в вузе. Особенно запомнился студент Грачёв Владимир Иннокентьевич — он исследовал информационные потребности. Тема была крайне актуальна тогда, остаётся такой и сейчас, но этим никто больше не занимается. Его курсовая работа по глубине напоминала монографию. Я сохранила её копию, она у меня до сих пор хранится».
«Мы с Инной Леоновной работали в тандеме в 2000-е», — вспоминает Надежда Ивановна. Несмотря на холод и трудности, система АИПС продолжала демонстрироваться гостям — «сначала она была уникальной, потом по чертежам стали создавать аналоги».
«Современной молодёжи это трудно представить, но мы никогда не следили за временем. Здесь действовал совершенно иной жизненный уклад — никто не стремился поскорее попасть домой».
В отличие от прежней работы на заводе, в институте время текло по-другому. Здесь Надежда Ивановна познакомилась с удивительными людьми — первыми студентами Стаса Андреевича. «Это были выдающиеся люди. Многие остались работать в вузе. Особенно запомнился студент Грачёв Владимир Иннокентьевич — он исследовал информационные потребности. Тема была крайне актуальна тогда, остаётся такой и сейчас, но этим никто больше не занимается. Его курсовая работа по глубине напоминала монографию. Я сохранила её копию, она у меня до сих пор хранится».
Цена гениальности
«Было время, когда кости трещали, кровь лилась, людям говорили — выложите партбилет», — вспоминает Надежда Ивановна о том поколении энтузиастов автоматизации. Но они «не думали о своей хате и всех атрибутах привычной жизни. Работа была основным в жизни этих людей».
Стас Андреевич не защищал диссертацию — не было времени на то, что казалось ему формальностью. «Ему нужно было дело делать, он знал, что делать и куда идти», — объясняет Надежда Ивановна. Без учёной степени зарплата была мизерной. Он говорил: «Мне только возле кассы становится стыдно, что я опять домой принесу жене эти копейки».
В быту Сбитнев был крайне скромен. Когда в конце жизни дали хорошую квартиру, он каким-то образом оформил списанный в библиотеке книжный стеллаж и забрал домой. «Книг у него было огромное количество. Да, пожалуй, и всё. Вся его жизнь была здесь, в институте».
Стас Андреевич не защищал диссертацию — не было времени на то, что казалось ему формальностью. «Ему нужно было дело делать, он знал, что делать и куда идти», — объясняет Надежда Ивановна. Без учёной степени зарплата была мизерной. Он говорил: «Мне только возле кассы становится стыдно, что я опять домой принесу жене эти копейки».
В быту Сбитнев был крайне скромен. Когда в конце жизни дали хорошую квартиру, он каким-то образом оформил списанный в библиотеке книжный стеллаж и забрал домой. «Книг у него было огромное количество. Да, пожалуй, и всё. Вся его жизнь была здесь, в институте».
Инна Леоновна Скипор: «Всё было случайно»
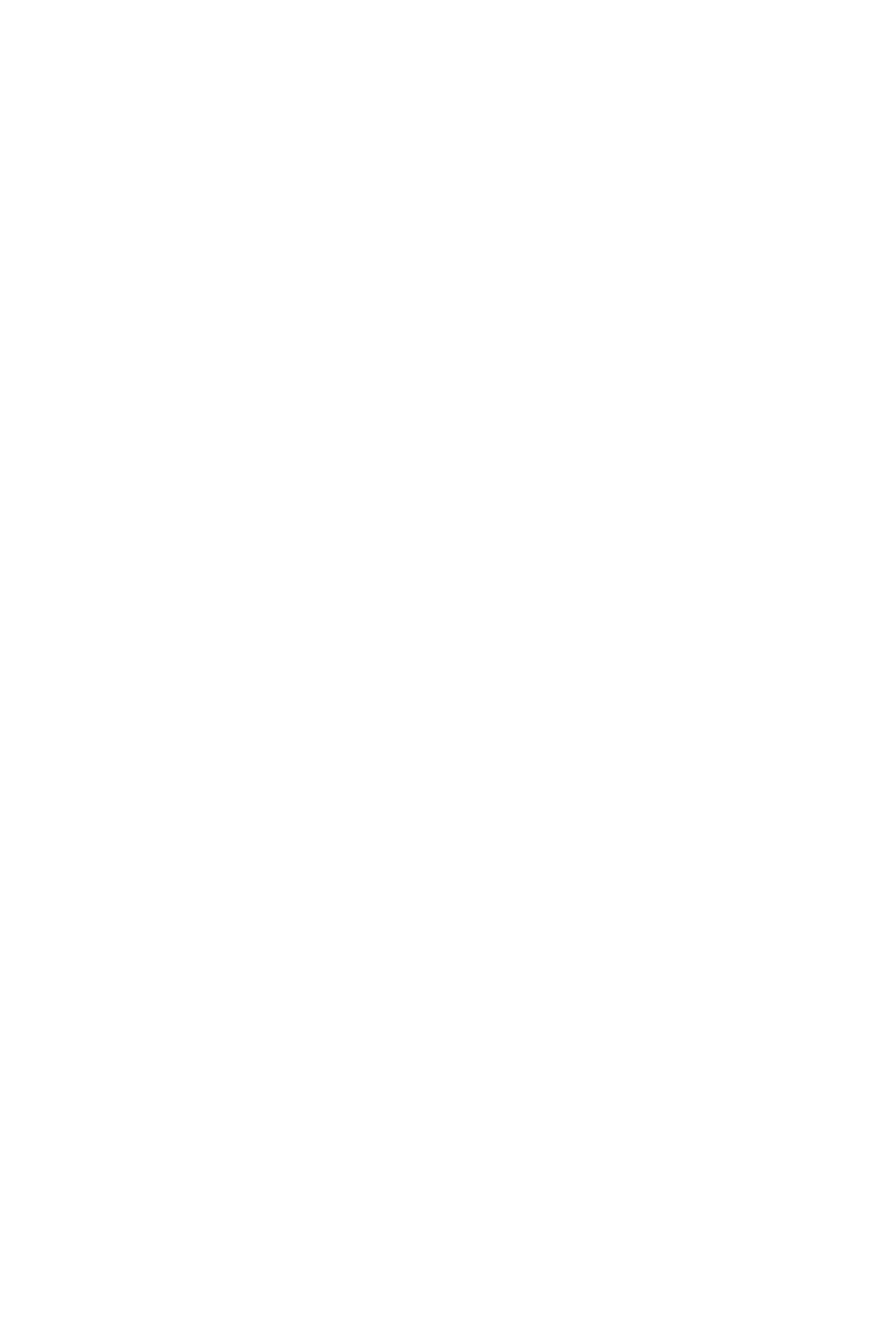
Поворот судьбы в институтском коридоре
История Инны Леоновны началась с недоразумения. «Всё было случайно. Готовилась к филологии и хотела всегда быть преподавателем русского языка и литературы. Я всегда любила книгу, в школе готовилась связать с этим жизнь. Но в 1990 году, когда поступала после техникума, слова «автоматизация» ещё не было в обиходе. И почему-то у меня всё это ассоциировалось с подъёмниками и механизмами».
В коридоре института Инне встретился высокий красивый мужчина. Он задал странный вопрос: как позвонить по телефону? «Стас Андреевич всех так проверял на способность алгоритмизировать. Заставлял отвечать пошагово: снять трубку, приложить к уху, дождаться гудка... Если гудок короткий — сразу набирать номер, если длинный — подождать...».
Стас Андреевич определил мою судьбу, — говорит Инна Леоновна. — Он перевернул мою жизнь тем разговором в коридоре». Через месяц после поступления студенты писали заявления о выборе специализации. «Я пошла на автоматизацию, хотя компьютеров тогда ещё не было. Об автоматизации тогда никто не помышлял, и никто не знал».
Что в женской натуре может позволить совершить такой резкий поворот в выборе профессии? «Наверное, структурированность, определённый тип мышления, — рассказывает Инна Леоновна. — С одной стороны — случай, а с другой стороны, наверное, какая-то закономерность есть».
В коридоре института Инне встретился высокий красивый мужчина. Он задал странный вопрос: как позвонить по телефону? «Стас Андреевич всех так проверял на способность алгоритмизировать. Заставлял отвечать пошагово: снять трубку, приложить к уху, дождаться гудка... Если гудок короткий — сразу набирать номер, если длинный — подождать...».
Стас Андреевич определил мою судьбу, — говорит Инна Леоновна. — Он перевернул мою жизнь тем разговором в коридоре». Через месяц после поступления студенты писали заявления о выборе специализации. «Я пошла на автоматизацию, хотя компьютеров тогда ещё не было. Об автоматизации тогда никто не помышлял, и никто не знал».
Что в женской натуре может позволить совершить такой резкий поворот в выборе профессии? «Наверное, структурированность, определённый тип мышления, — рассказывает Инна Леоновна. — С одной стороны — случай, а с другой стороны, наверное, какая-то закономерность есть».
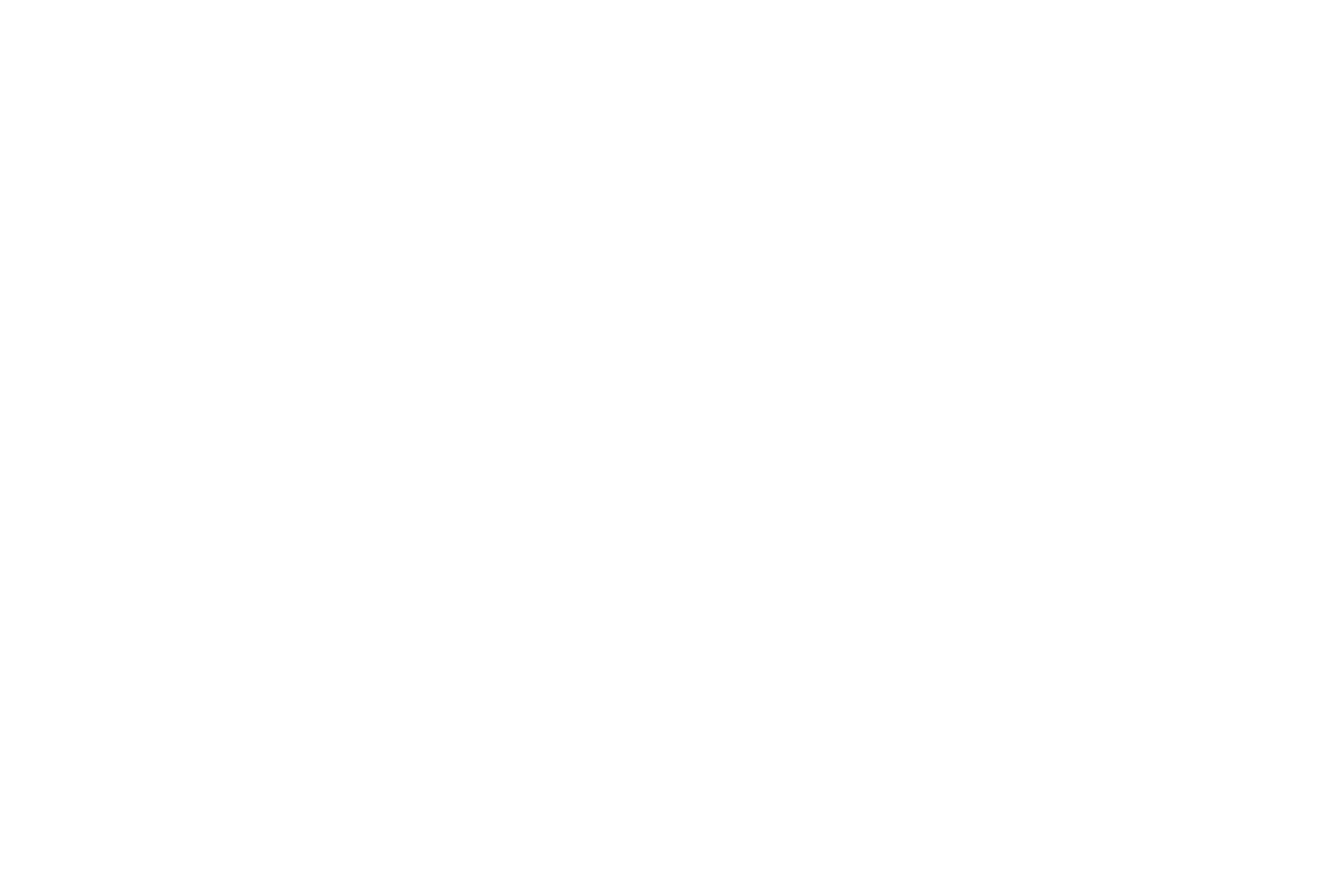
Первые шаги в мире технологий
Первые компьютеры появились позже — огромные ДВК-машины и «Искры». «На первом этаже стояла одна машина 326. Я помню свой курсовой проект — создавала базу данных по духовному образованию для Новосибирской православной гимназии. Работала после пяти вечера с коллегой, когда все занятия заканчивались и все студенты расходились, до этого времени было не подступиться. Вводила карточки в базу данных».
В аудиториях столы стояли «с плашмяком», и студенты «старались не садиться с краю, а куда-нибудь посередине, потому что Стас Андреевич всегда вызывал, и ты должен был демонстрировать свои знания».
Стас Андреевич стал научным руководителем Инны Леоновны: «Он был таким увлечённым человеком, так интересно всё рассказывал, что мы ему верили. Не важно, какое время дня — пока не сделаю, не уйду. Он воспитывал нас именно так».
В аудиториях столы стояли «с плашмяком», и студенты «старались не садиться с краю, а куда-нибудь посередине, потому что Стас Андреевич всегда вызывал, и ты должен был демонстрировать свои знания».
Стас Андреевич стал научным руководителем Инны Леоновны: «Он был таким увлечённым человеком, так интересно всё рассказывал, что мы ему верили. Не важно, какое время дня — пока не сделаю, не уйду. Он воспитывал нас именно так».
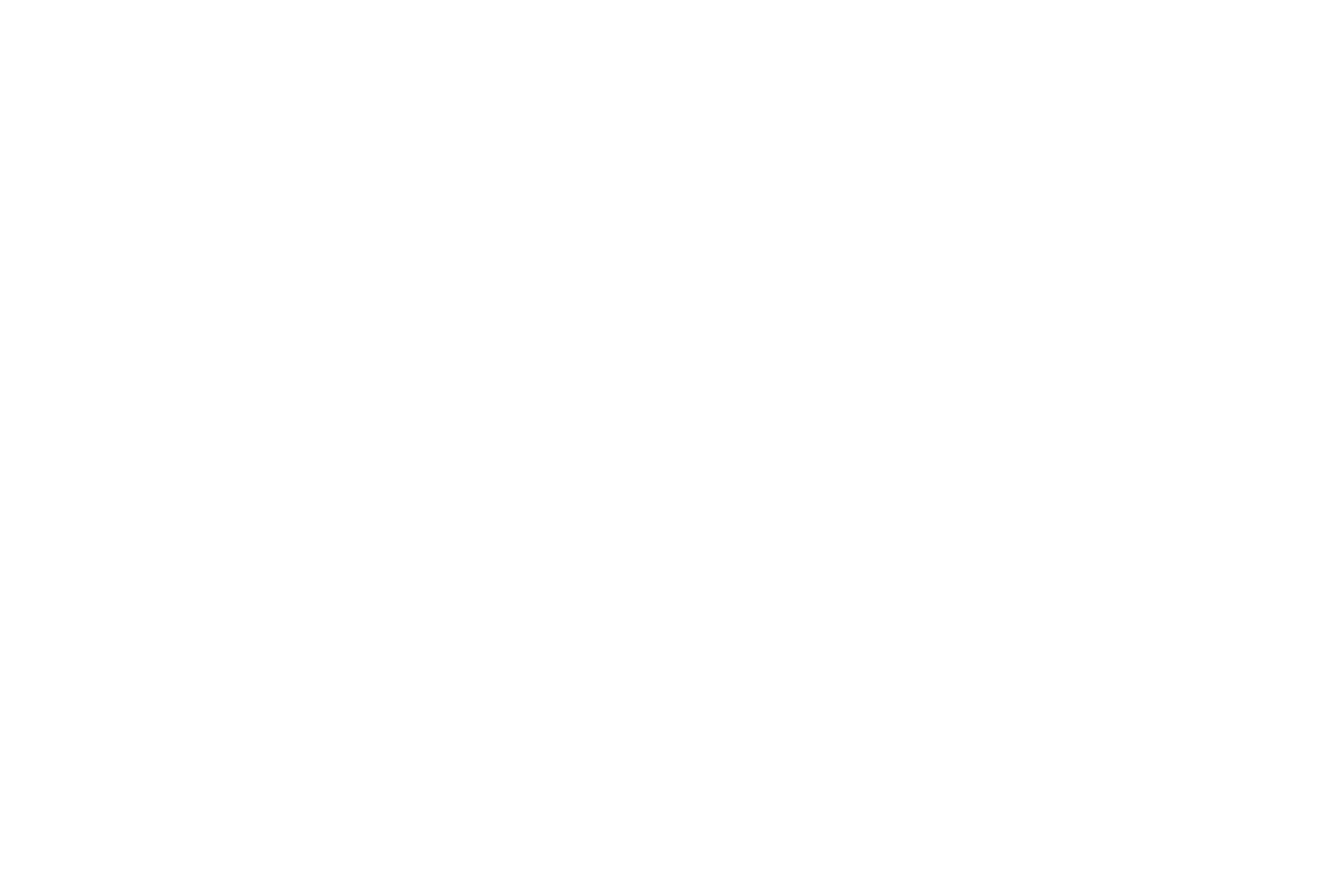
Становление профессионала
На третьем курсе Стас Андреевич сказал: «Всё, хватит ерундой маяться, иди ко мне». Инна Леоновна стала писать у него дипломную работу и участвовать в исследованиях системы АИПС — «анализировала каталоги, востребованность книг, собирала статистические данные. Это была кропотливая и серьёзная работа. Долгое время у меня хранились эти исходные данные в коробках».
«Лингвистику и литературоведение я не разлюбила — это всё со мной осталось. Но профессиональный контекст стал другим, и я рада этому. Специалистов в области лингвистического обеспечения автоматизированных систем практически нет — их единицы.
«Жизнь сложилась так, что я всё равно занималась лингвистикой. Моя диссертация — «Лингвистическое обеспечение функционирования автоматизированной библиотечной сети». Как-то так судьба распоряжается».
«Лингвистику и литературоведение я не разлюбила — это всё со мной осталось. Но профессиональный контекст стал другим, и я рада этому. Специалистов в области лингвистического обеспечения автоматизированных систем практически нет — их единицы.
«Жизнь сложилась так, что я всё равно занималась лингвистикой. Моя диссертация — «Лингвистическое обеспечение функционирования автоматизированной библиотечной сети». Как-то так судьба распоряжается».
Руководитель и наставник
Сегодня Инна Леоновна Скипор — проректор по учебной и воспитательной работе, доцент кафедры цифровых технологий и ресурсов, кандидат педагогических наук. «Библиотека — это центр, который обеспечивает не только поддержку образования, науки, творчества, но и место для проведения практики студентов. Это среда, в которой мы воспитываем обучающихся по направлению библиотечной информационной деятельности, смежным направлениям — документоведению, архивоведению».
«Основатель факультета Стас Андреевич Сбитнев занимался автоматизацией библиотек, и библиотека была плацдармом для новых научных разработок. Не случайно его называли пионером автоматизации в стране — библиотека благодаря этому могла первой формировать базы данных, когда их ещё не было, внедрять электронный каталог».
«Основатель факультета Стас Андреевич Сбитнев занимался автоматизацией библиотек, и библиотека была плацдармом для новых научных разработок. Не случайно его называли пионером автоматизации в стране — библиотека благодаря этому могла первой формировать базы данных, когда их ещё не было, внедрять электронный каталог».
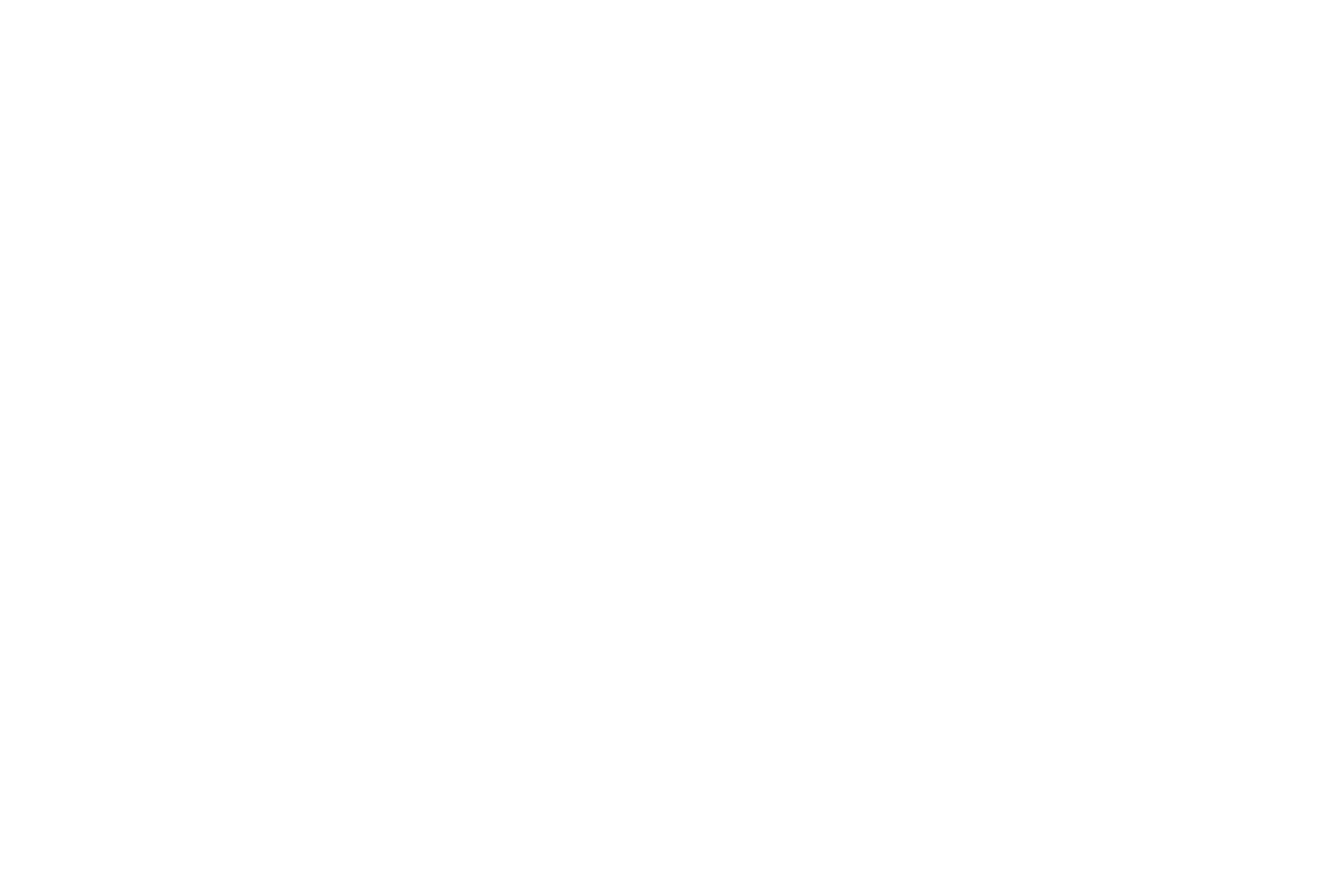
Продолжение традиций
Традиция Стаса Андреевича продолжается: «Студенты выполняют проекты на базе разных библиотек, но научная библиотека нашего вуза всегда была одной из баз для практики и выпускных квалификационных работ. Мы делаем разные ресурсы — указатели, справочники».
Особый проект возник случайно — накануне пандемии моя студентка Юлия Гайнулина, проходившая практику в научной библиотеке вуза, познакомилась с уникальным фондом редких книг. «У нас возникла идея раскрыть, показать этот уникальный фонд для широких кругов. Создали электронный библиографический указатель «Редкие книги в фонде библиотеки». Завершать пришлось уже в изоляции, но указатель живой до сих пор — мы пытались раскрыть уникальность этого фонда, показать те возможности, которые у нас есть».
За формированием уникальных фондов стояла Тамара Николаевна Мацкевич — «неравнодушный человек, инициатор. Эти уникальные фонды она формировала и продвигала. Благодаря её неравнодушию мы имели возможность поработать».
Особый проект возник случайно — накануне пандемии моя студентка Юлия Гайнулина, проходившая практику в научной библиотеке вуза, познакомилась с уникальным фондом редких книг. «У нас возникла идея раскрыть, показать этот уникальный фонд для широких кругов. Создали электронный библиографический указатель «Редкие книги в фонде библиотеки». Завершать пришлось уже в изоляции, но указатель живой до сих пор — мы пытались раскрыть уникальность этого фонда, показать те возможности, которые у нас есть».
За формированием уникальных фондов стояла Тамара Николаевна Мацкевич — «неравнодушный человек, инициатор. Эти уникальные фонды она формировала и продвигала. Благодаря её неравнодушию мы имели возможность поработать».
Две женщины, одна философия
Надежда Ивановна Колкова пришла в институт, оставив стабильную работу ради неизвестности. Инна Леоновна Скипор — «случайно» выбрав «не ту специальность». Разница в возрасте, жизненном опыте, но их объединяет одно — способность увидеть в случайности судьбу.
«У нас никогда не было подковёрных игр. Все всегда занимались делом. Если бы кто-то начал интриговать, это сразу прекратилось бы», — говорит Надежда Ивановна.
«Наша кафедра отличается от других. Из тех, кто знал Стаса Андреевича, нас осталось немного, но традиция живёт. Мы меняемся, но всё равно отличаемся — потому что когда-то это заложил Стас Андреевич», — добавляет Инна Леоновна.
Сегодня на кафедре цифровых технологий и ресурсов работает уже новое поколение. Проектный подход, заложенный Сбитневым, сохранился: студенты работают с реальными библиотеками, архивами, организациями: решают конкретные задачи.
«У нас никогда не было подковёрных игр. Все всегда занимались делом. Если бы кто-то начал интриговать, это сразу прекратилось бы», — говорит Надежда Ивановна.
«Наша кафедра отличается от других. Из тех, кто знал Стаса Андреевича, нас осталось немного, но традиция живёт. Мы меняемся, но всё равно отличаемся — потому что когда-то это заложил Стас Андреевич», — добавляет Инна Леоновна.
Сегодня на кафедре цифровых технологий и ресурсов работает уже новое поколение. Проектный подход, заложенный Сбитневым, сохранился: студенты работают с реальными библиотеками, архивами, организациями: решают конкретные задачи.
Эпилог: что остаётся
В архиве кафедры хранятся перфокарты, тезаурусы, фотографии. На стене — портрет Стаса Андреевича.
«Таких людей сейчас больше нет. Изменились приоритеты. Быть бессребренником и посвятить всю жизнь служению делу — в наше время это уникальное явление», — говорит Надежда Ивановна.
«Таких людей сейчас больше нет. Изменились приоритеты. Быть бессребренником и посвятить всю жизнь служению делу — в наше время это уникальное явление», — говорит Надежда Ивановна.
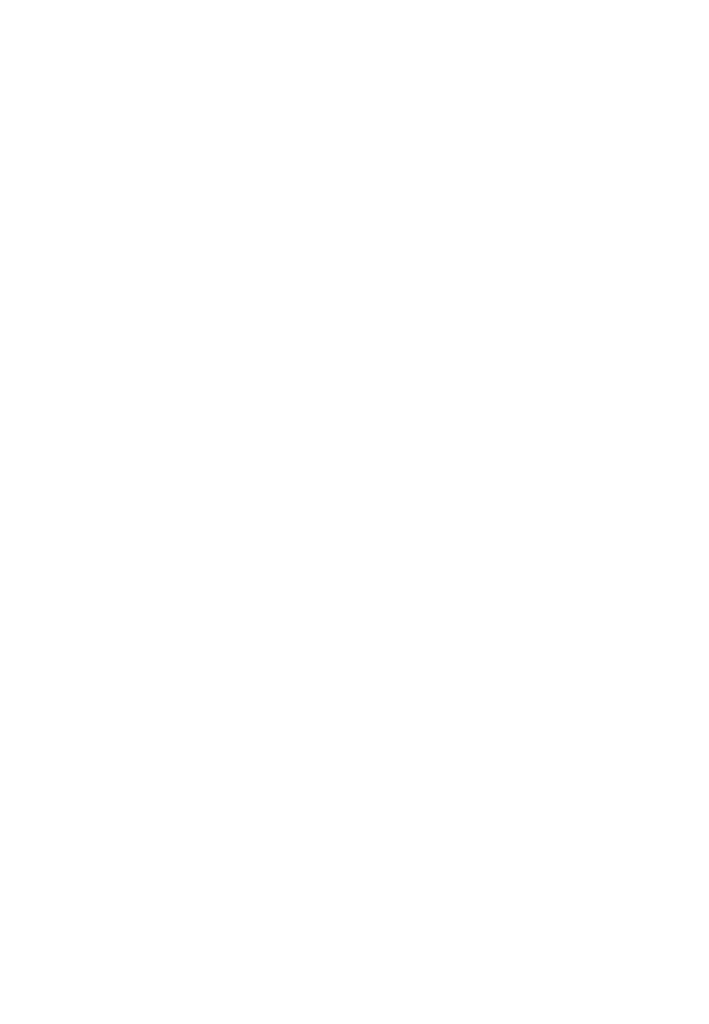
Есть встречи, которые меняют всё. Стас Андреевич не просто предвидел технологическое будущее. Он понимал, что за любой машиной стоит человек, а за любым открытием — чья-то жизнь, отданная служению, идее.
Сбитнев ушёл, но остались люди, его ученики — те, кто продолжает верить, что работа может быть призванием, что случайность может оказаться судьбой, что один человек способен изменить жизни многих.
Две женщины, два пути, и одна особенность: когда встречаешь своего учителя, жизнь делится на «до» и «после». И если повезёт, «после» длится всю оставшуюся жизнь.
Сбитнев ушёл, но остались люди, его ученики — те, кто продолжает верить, что работа может быть призванием, что случайность может оказаться судьбой, что один человек способен изменить жизни многих.
Две женщины, два пути, и одна особенность: когда встречаешь своего учителя, жизнь делится на «до» и «после». И если повезёт, «после» длится всю оставшуюся жизнь.
Автор идеи проекта: Александр Шунков
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Макар Гречишкин/из личного архива Сергея Колкова/из открытых источников
Текст: Елена Митрофанова
Фотографии: Макар Гречишкин/из личного архива Сергея Колкова/из открытых источников